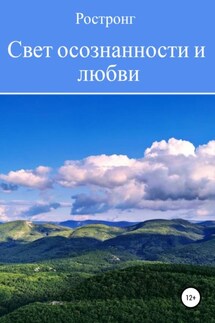Чтобы потомки знали - страница 18
Постепенно мои воровские способности повысились: я научился вскрывать сундуки (их у нас было три). Не трогая замки, а просто отодвинув нужный мне сундук от стенки, я выбивал пробой шарнира и открывал крышку с задней стороны. Я хорошо знал, где лежали канцтовары (наследство от отца), одежда, ткани и прочие ценности. Меня интересовали, в основном, писчая бумага, тетрадки, резинки-ластики, тушь, ватманская бумага (а школьники уже писали на газетах). Позднее отрезал полосу черного сукна, чтобы вставить клинья в брюки и сделать себе клеш (50 см!). Шил сам на швейной машинке.
Бывало, что не успевал (или забывал) надежно спрятать украденное и тогда мать била меня «смертным боем». Однажды, когда я убегал от ее побоев, она запустила в меня топор и он впился в доску забора (чуть-чуть не в голову!) Била она меня часто и иногда по пустякам, а я только защищался, хотя был сильнее ее.
В училище мне объявляли выговоры, грозили жесткими карами, а я сознательно жил на грани «фола», с целью выйти, минуя тюремные ворота. Из ремесленных училищ было два выхода: на производство или в тюрьму. Между прочим, брат мой Женя в Кузбассе выбрал второй путь – побег и 4 месяца заключения. Отсидев свой срок, он сразу был призван в армию, попал в 1-ю дивизию НКВД им. Дзержинского, так как по росту и телосложению вполне подходил в эту элитную воинскую часть. Воевал до Победы и вернулся домой в 1947 году.
Ранней весной 1944 года нас, пять групп учеников трех ремесленных училищ и школы ФЗО общим числом около 150 человек, погрузили на баржи, и буксирный пароход повез от Тобольска вниз по Иртышу вслед за льдом. В училище нам выдали сухой паек из расчета на десять дней – по две буханки хлеба, который мы «оприходовали» практически полностью за два: многие из нас за годы войны хлеба в таком количестве ни разу в руках не держали. Сейфов и тумбочек с замками у нас, естественно, не было, так что хранить ценнейшее продовольствие, кроме собственных желудков, было негде. А оставить без присмотра… Так что к месту назначения – на остров посередине реки близ села Демьянское – мы прибыли налегке. Остров был удален как от левого, так и от правого берегов реки на весьма приличное расстояние, а на самом острове были постройки в виде бараков, в которых до нас жили, вероятно, зэки.
Село Демьянское – районный центр – стоит на правом берегу Иртыша, в 300 км от Тобольска. С острова, на который нас высадили, села не было видно, зато хорошо были видны огромные штабеля строевого леса, который нам предстояло погрузить на баржи-лесовозы. Технология погрузки была до примитивности проста: на высокий борт баржи с суши были наклонно уложены шестиметровыве бревна (2 штуки), по которым с помощью длинных веревок нужно закатить очередное бревно. Сами мы на борт баржи поднимались по узкому длинному трапу.
С началом светового дня начиналась наша работа. Завтрака не было, так как все уже было съедено. В полдень был перерыв как бы на обед, но вместо обеда нам выдавали по соленой селедке на двоих и вдоволь воды прямо из реки. Рацион «ужина» в конце светового дня от «обеденного» не отличался. Уже на третий – четвертый день мы настолько ослабели, что начались голодные обмороки, паденья с трапа в воду, а самые слабые уже с трудом поднимались на ноги. На всю жизнь запомнилась не только красная морда начальника, но и его фамилия – Захаров. Какую должность он занимал во властных структурах – не знаю, но хорошо помню, что на нем были брюки-галифе цвета хаки с кожей на всю задницу. Нрава он был зверского, мы его люто возненавидели.
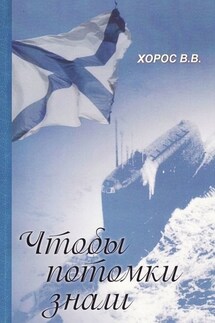

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)