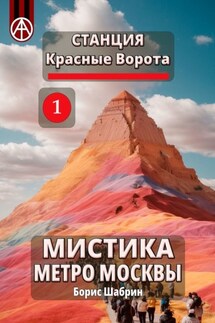Дагатлих - страница 11
.
Сегодня долгий переезд. Пакуемся. Мы весь день будем добираться до отельчика на самой вершине горы, откуда в обе стороны видно долину.
Уносим вещи вверх по дороге, мимо чумазых домиков, мимо ползущих по горам облаков, мимо грустных худых собак, лавок с овощами, мимо полицейского поста, которому мы доставили столько хлопот.
Тихонько сказать: «До свидания. Спасибо». И в путь.
.
Мне снится, как будто вся наша компания едет на музыкальный фестиваль. Думаю, он проходит в каком-то чудесном городе, которого на самом деле нет, который мне придумался и скоро обретёт тело.
В этом городе живёт мужик с крыльями, похожий на моего преподавателя по философии. Могучий, грузный, горбоносый, в бордовом тяжёлом свитере; имя его я пока не знаю. Но он очень важен для города. Крылья у него – как совиные, и хвост. Он их может убирать, если они мешаются.
Мужик пытается не то купить, не то настроить огромные дудочки – деревянные, разрисованные цветными опоясками и, наверно, чудесные.
Может, мы на самом деле едем в этот несуществующий город, к крылатому горбоносому дудочнику?
.
Я поняла, что меня воротит от необходимости делать что-либо ровно и правильно. Это потому, что мой отец всё всегда делает ровно и правильно.
Знаешь, в мире нет ни одной прямой линии.
Знаешь, нет никакого «правильно», потому что у каждого своя правда.
.
Мишутка забирает с собой блины с завтрака. Заворачивает в промасленную бумажку, под общий смех, с донельзя серьёзным лицом.
У него очень интересная манера улыбаться. Глаза радостные, а уголки губ вниз идут, и брови изгибаются, как у Пьеро. Мишутка тоже могучий и тоже с горбатым носом – наверно, он мог бы быть сыном мужика из моего сна. И он точно немного крылатый.
Так вот, Мишутка по-мишуткински улыбается и говорит: «Вот вы смеётесь, а через час хороводы вокруг меня водить будете!»
.
Мы летим через небо, по тонкой кромке асфальта на горной спине. Светоносная пропасть проглатывает скалы. По гребням выстроились деревца и тонко, как плетёнка книжной миниатюры, узорят небо. Горы к горизонту все белее; ощущение, что мир парит, и мы все способны к полёту – ты смотри, как мчится наша колонна, как лениво кренятся мотоциклы на поворотах – точно придуманные мной летокрылы в небе дают крен!
Мы забираемся всё выше. Когда солнце закатывается, наша пыльная кавалькада добирается до отеля и тут же, не скинув мешков, заезжает на холм – он же – отельная крыша. Я оказываюсь наверху и пропадаю.
Долину видно отсюда со всех сторон, а развернёшься – увидишь другую. Мы на самом пике скалы. Весь мир отсюда и до кольца горизонта нам виден – он разлёгся в сияющем, сочащемся туманом воздухе, и сквозь поры его ходит свет, и свет льётся сверху. И розовый сгусток света в облаках тонет. А по ту сторону встаёт луна. Ветер ласково обволакивает нас, сияющий, свежий, никогда не видевший заводских труб. Трава гнётся. Весёлые дети в телах сорока-пятилесятилетних людей улыбаются, стоя на крыше – отеля? Мира?
.
Pate угощает меня болгарским вином и пармезаном. Я почти не пью, и каждый раз заново удивляюсь. Меня быстро уносит, потом я засыпаю; а сегодня мне спать нельзя, мы же с тобой созваниваемся.
В отеле мы единственные посетители. Длинный пустой зал с множеством столов и стульев, с жутким скрипящим эхом – пугающе огромный для нас. Pate включает блюз, и эхо кидает незнакомые голоса от одного тёмного угла до другого. За окном чернота. Я пробую что-то тёмно-рубиновое, терпкое, вязкое и горячее – холодное, но горячее изнутри.