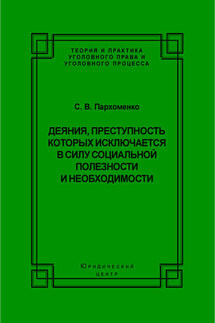Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости - страница 4
При нормативном закреплении «необходимой личной обороны» конкретно назывались не только характер возможных последствий применения силы нападающему (раны, увечья, смерть), но и охраняемые при этом блага (жизнь, здоровье, жительство и свобода обороняющегося, честь и целомудрие женщины). Во всех случаях, указанных в Уложении при определении обороны, она дозволялась «не только для собственной своей защиты, но и для защиты других, находящихся в таком же положении» (ст. 109). Вместе с тем реализация права на оборону ограничивалась существенной оговоркой: она допускалась «при невозможности прибегнуть к защите местного или ближайшего начальства». И это при наличии общего требования о том, что в каждом случае «обороняющийся обязан о всех обстоятельствах и последствиях своей необходимой обороны немедленно объявить соседним жителям, а при первой возможности и ближайшему начальству». При этом наказуемая несвоевременность обороны увязывалась только с конечным моментом нападения[18].
Уложение 1845 г., достаточно совершенно регламентируя непреодолимое принуждение в ст. 106[19], вместе с тем не знало в числе ОИПД такого более широкого в современном значении обстоятельства, как крайняя необходимость. Последняя упоминалась лишь в числе обстоятельств, уменьшающих вину и наказание: «Если он учинил сие преступление единственно по крайности и совершенному неимению никаких средств к пропитанию и работе» (п. 7 ст. 140).
Уложение 1845 г. интересно не только попыткой дать общее определение конкретных ОИПД, но и тем, что при этом обнаруживалось стремление дифференцировать ответственность за превышение пределов реализации отдельных из них. Наряду с общим невменением в вину содеянного при наличии названных выше обстоятельств, влекущем его ненаказуемость, эти же самые обстоятельства, во-первых, согласно ст. 140 Уложения, «в большей или меньшей мере уменьшали вину, а с тем вместе и строгость следующего за оную наказания», а во-вторых, вызывали снисхождение к виновному при совершении конкретных преступлений (предусмотренных, в частности, ст. 1467, 1493, 1663, 1664 Уложения). Тем самым уже в этом нормативно-правовом акте мы обнаруживаем аналог двойного учета превышения пределов ОИПД: не только на уровне норм Особенной, но и Общей части (п. «е», «ж» ст. 61, ст. 108, 114 УК). Само же по себе превышение пределов реализации ОИПД сопровождалось значительно меньшей ответственностью в сравнении с обычным преступлением и, например, при необходимой обороне влекло кратковременный арест, выговор в присутствии суда либо церковное покаяние (ст. 1938, 1942).
Несравненно более совершенным в технико-юридическом отношении и в плане отражения конкретных социально-экономических условий жизни закона, чем Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в том числе в редакции 1885 г.), является Уголовное Уложение 1903 г. Несмотря на то, что призванное усовершенствовать и унифицировать российское «материальное» уголовное право, «укрепить в народе чувство законности» Уложение так и не было до конца введено в действие в полном объеме, оно заслуживает особого внимания в части нормативного отражения интересующей нас проблемы.
Говоря о нормативном закреплении в Уложении 1903 г. ОИПД, следует прежде всего сказать о том, что в этом документе впервые было дано «чисто» формальное определение понятия преступления: «Преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания» (ст. 1)