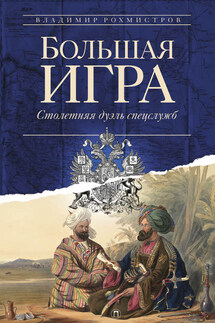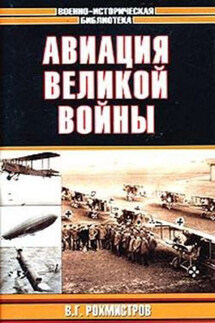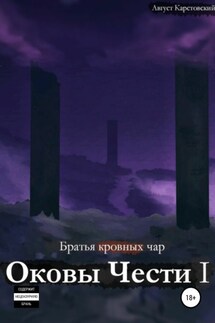Дивизия без вести пропавших. Десять дней июля 1941 года на Лужском рубеже обороны - страница 10
– 18-я полевая армия под командованием генерал-полковника фон Кюхлера (начальник штаба – полковник Хассе), в которую входили 1-й, 26-й и 38-й армейские корпуса (7 пехотных и одна охранная дивизии);
– 16-я полевая армия под командованием генерал-полковника Буша (начальник штаба – полковник Вутман) включала 2-й, 10-й и 28-й армейские корпуса (8 пехотных к одна охранная дивизии);
– 4-я танковая группа под командованием генерал-полковника Гепнера, в составе которой действовали 41-й моторизованный корпус генерал-полковника Рейнгардта (1-я и 6-я танковые дивизии, 36-я механизированная дивизия, дивизия СС «Тотенкопф» и 269-я пехотная дивизия) и 56-й моторизованный корпус генерала пехоты фон Манштейна (8-я танковая дивизия, 3-я моторизованная дивизия, 290-я пехотная дивизия).
В резерве командования группы армий «Север» оставались 23-й и 50-й армейские корпуса.
Нас в этой книге, прежде всего, будет интересовать 6-я танковая дивизия.
Раус: «Тактическая организация 6-й танковой дивизии перед наступлением 22 июня 1941 года была следующей:
Боевая группа «фон Зекендорф»
Подполковник барон Эрих фон Зекендорф
114-й моторизованный полк
57-й танковый разведывательный батальон
Рота 41-го батальона истребителей танков
6-й мотобатальон (только утром)
Боевая группа «Раус»
Полковник Эрхард Раус
11-й танковый полк
I/4-го моторизованного полка[19]
II/76-го артиллерийского полка
Рота 57-го танкового саперного батальона
Рота 41-го батальона истребителей танков
Батарея II/411-го зенитного полка
6-й мотобатальон (вторая половина дня)
Главные силы дивизии
Генерал-майор Франц Ландграф
Штаб, II и III/4-го моторизованного полка
Штаб I и III/76-го танкового артиллерийского полка
57-й танковый саперный батальон (без одной роты)
41-й батальон истребителей танков (без двух рот)
Приданы
II/59-го артиллерийского полка
II/114-го зенитного полка (без одной батареи)»[20]
В этот день уже почувствовали свою судьбу и жители северной столицы.
Ленинград. Смольный
Антюфеев[21]: «22 июня было воскресенье, день отдыха. Но некоторые крупные предприятия работали. Кроме того, люди, услыхав по радио весть о вероломном нападении фашистских орд на нашу страну, устремились на свои предприятия, в учреждения, учебные заведения.
Мне удалось побывать на митингах у скороходовцев и электросиловцев… Всюду трудящиеся Ленинграда горячо и взволнованно говорили о своей решимости дать отпор ненавистному врагу.
Я был в кабинете А. А. Кузнецова, когда туда вошел заведующий военным отделом горкома партии И. А. Верхоглаз. Он сообщил, что десятки тысяч людей требуют немедленно отправить их на фронт, но согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР мобилизацию надлежит начать 23 июня. Алексей Александрович посоветовался с членами бюро горкома партии, затем позвонил в ЦК ВКП(б). Общее мнение сводилось к тому, чтобы начать в Ленинграде мобилизацию немедленно.
Вечером 22 июня работники большинства мобилизационных пунктов приступили к формированию команд…»[22]
Командование же Ленинградского военного округа пока еще не ощутило, откуда идет к нему реальная угроза.
Главком ВВС Ленинградского округа А. А. Новиков: «Согласно предвоенным планам, главные силы округа были сосредоточены на севере от Ленинграда, преимущественно на Карельском перешейке. Именно отсюда мы ожидали наибольшей опасности городу. Угроза Ленинграду с юго-запада, т. е. со стороны Восточной Пруссии, в расчет почти не принималась, и в плане нашей обороны возможность прорыва противника на этом направлении, по существу, не учитывалась. Наше высшее командование исходило из тех соображений, что с юго-запада Ленинград надежно прикрыт войсками Прибалтийского особого военного округа, а от границ Восточной Пруссии до Ленинграда более 750 км. Вот почему до войны в округе не проводилось сколько-нибудь серьезных оборонительных мероприятий для защиты города с юго-запада…»