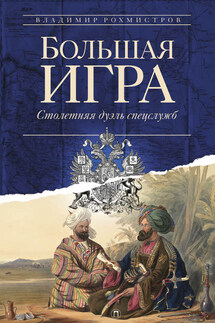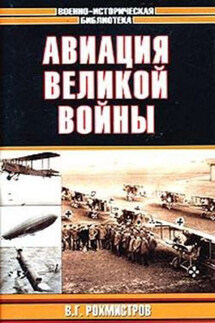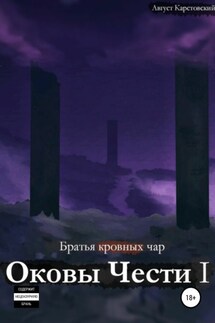Дивизия без вести пропавших. Десять дней июля 1941 года на Лужском рубеже обороны - страница 6
Со временем, благодаря развитию артиллерии, крепостные стены перестали быть не только надежным укрытием, но и вообще серьезным препятствием. В этом смысле интересна история наиболее известных осад в период наполеоновских войн. Именно в это время в военной практике крепко обосновалось понятие так называемого открытого города. В 1805 году Наполеон вошел в Вену (как в открытый город) триумфатором. Он остановился в королевском дворце в Шёнбрунне, по вечерам посещал оперу, а солдаты его свободно гуляли по городу и платили полновесной монетой в городских кафе. Сражения же происходили в полях, загородом. Городская публика наблюдала развитие боевых действий с балконов в бинокли.
Это была цивилизованная европейская война.
Однако те же наполеоновские маршалы в течение восьми месяцев не могли взять небольшого испанского города Сарагосы. В конце концов «славный» маршал Ланн все же взял город, вернее полные его развалины. Взял, положив на это огромное по масштабам тех войн количество своих солдат – около двадцати тысяч.
Это была кровопролитнейшая эпопея с уличными боями и резней, в результате чего большая часть жителей города погибла, а оставшаяся уже была измождена настолько, что оказалась не в силах сражаться далее. Но даже в таких условиях город капитулировал лишь после того как руководивший его обороной генерал-капитан Поллахос был взят в плен в бессознательном состоянии; он потерял сознание от голода и недосыпаний.
К эпохе наполеоновских войн относится и другой вариант – не Вена и не Сарагоса, но Москва. Наполеона пустили в город, но город сожгли, сделав фактически невозможной зимнюю стоянку войск.
Можно привести еще множество примеров осады городов, но главное заключается в том, что во всей истории войн осада Ленинграда имеет свое неповторимое лицо. Она стоит особняком в мировой истории. Это уже не просто осада, это самая настоящая блокада, ставшая одной из величайших трагедий Второй мировой войны. Она вполне сравнима с холокостом, ведь больше восьмидесяти процентов детей, стариков и женщин в блокаду погибли. И немецкое командование сознательно пошло на это, желая задушить, заморить город, не прилагая усилий для его взятия.
Достоверно известно, в том числе по документам из немецких архивов, что гитлеровское командование приняло решение уморить Ленинград голодом. Прекрасно, судя по всему, понимая, что Ленинград никогда не станет для гитлеровских войск открытым городом, немецкий главный штаб не захотел получить здесь что-то вроде второй Сарагосы и решил не брать город. Было принято решение просто блокировать его, заморить голодом, сжечь фугасами, разрушить тяжелой дальнобойной артиллерией.
И этот момент сам по себе чрезвычайно важен, потому что согласно общему замыслу плана «Барбаросса» Ленинград подлежал захвату и полному уничтожению в первую очередь. Именно в этом заключалось одно из важнейших условий плана молниеносной войны. В плане «Барбаросса» было однозначно зафиксировано: «Только после достижения вышеизложенных целей, за которыми предстоит захват Ленинграда и Кронштадта, следует продолжить наступательные операции по овладению важнейшими линиями коммуникаций и ключевыми оборонительными узлами на пути к Москве…».
Также из более поздних немецких документов известно, что Гитлер неоднократно подчеркивал необходимость первоочередного взятия Ленинграда, и только после этого должен был последовать поворот на Москву (Blockade Leningrad 1941–1944. Reinbeck, 1992; Die Blockade Leningrad. Mainz, 1999 и др.) То, что Ленинград весь начальный период войны продолжал считаться важнейшим объектом на направлении главного стратегического удара немецкой армии, видно и из того, что 4 августа Гитлер посетил штаб группы армий «Центр» и разъяснил генералам, почему надо разделаться с северной столицей в первую очередь. В «Военном дневнике верховного командования вермахта» (ОКВ