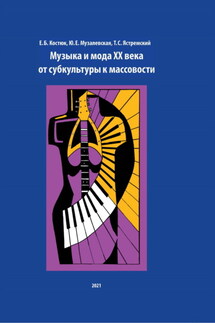До чего же довёл меня блюграсс. Блюзы и монстры, которые разрушали мою жизнь - страница 25
«Кто же я – иудей или гой?» – Этим вопросом Биттл изводил себя во время долгих прогулок, тщетно пытаясь определить, чего в нём больше. Одержимость вопросом идентификации сопровождала его на протяжении всей жизни.
Подливали масла в огонь и сваты из соперничающих еврейско-католических группировок, готовых перетянуть, переманить и переварить несчастного парня у себя во чреве, всячески запутывая его Weltanschauungen — мировоззрение.
Семейство Хонов сражалось с той же проблемой, но в нём было два бойца – Патти и Голди Хон. Мистер Хон был евреем, а мать – нет. Патти решила, что она «шикса», а Голди наоборот – «мейделе», еврейская девочка.
Что касается меня, я ещё не знал, что существую как отдельная личность, способная что-то делать или где-то находиться порознь от поглотившего меня коллектива.
Будучи слишком мал для формирования концепций, я влачил существование тусклого и неприметного хамелеона, который, не зная дискриминации, меняет цвет, облик и акцент между властями большой тройки.
Я был придатком семейства Фэи, членом местной гойской банды, а в школе у меня была секретная любовь, о которой никто ничего не знал, а я никому никогда о ней не рассказывал за все эти тридцать, а то и сорок лет.
В школе я стал играть с одной первоклассницей, или она начала играть со мной. Шестьдесят процентов инициативы исходило с её стороны. С моей – сорок. И она обучила меня новым играм. Они были связаны с языком. Она не учила меня разрабатывать концепцию. Я узнал об этом не от неё, скорее от её отца, много лет спустя, но она этим не занималась.
Она поведала мне о необычных сказочных людях, совсем не похожих на мутантов племени «Крелль», о чудесных блюдах их национальной кухни – они жили вблизи от нашей школы. А потом настал черёд для необычной музыки. Она так и сказала:
– Джонни, я хочу рассказать тебе, какие странные звуки сопровождают наши вечеринки. Преобладают кларнеты и барабан, играют они быстро, и гости нередко исполняют свой танец, только я не знаю, как он называется.
– А ты спой мне одну из этих песенок, – предложил я моей дивной подруге из первого класса. – И может быть я пойму, о чём ты говоришь.
Названия у пропетых ею песен были какие-то неамериканские: «Tzena, Tzena, Tzena», «Oyfn Weg Shtet A Baum», «Die Zilberne Kasene», «Frolekes», «Hatvikeh» — остальные звучали не менее странно. И в очередной раз, так же, как я уже был очарован самой этой «мейделе» – глубиной её чёрных глаз, совершенством её хрупкой фигурки, чистотой школьной формы, запахом её кожи, вкусом её домашней еды, инопланетной атмосферой её дома, насыщенной словечками, чрезвычайно точно обозначавшими странности поведения и характера массы людей и ситуаций – точно так же я оказался покорён нездешним, каким-то армянским, что ли, мелосом этих новых песен.
Там, где должен быть мажор, звучал минор и наоборот. То есть всё было переставлено не на свои места, и я находился там, где мне находиться не следовало, потому что «делай, что хочешь, только не водись с евреями, они, коварные и мелочные, непременно тебя испортят» – так учил меня Эдди.
Однако в данном случае это явно не соответствовало действительности, потому что и Натали Фельдман и члены её семьи, которых я очень полюбил за три года обучения в начальных классах, полюбил так сильно, вопреки запретам Эдди и Лэрри, и национальной политике нашего Член-клуба, согласно которой, мне не следовало даже заговаривать с этой злостной растлительницей, потому что всё могло закончиться либо ничем, либо большой обидой. Но я никого не любил в моей взрослой жизни так, как её.