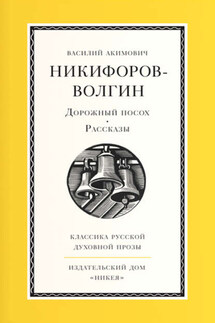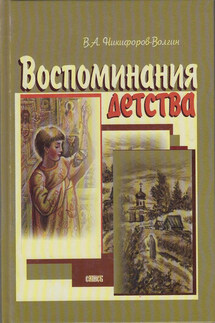Дорожный посох - страница 10
Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.
Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:
– Успокойся, милый, успокойся!
Начался чин анафематствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце[48], и провозглашали ектению[49] о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.
В окна собора била вьюга. Все люди стояли, потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.
После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен[50]:
Как бы объятый огнем и бурею, протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово: анна-фе-мма!
И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну.
Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее:
– Анафема, анафема, анафема!
Церковь жалела отлучаемых.
В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью:
– Отрицающим бытие Божие – анафема!
– Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог – анафема!
– Не приемлющим благодати искупления – анафема!
– Отрицающим Суд Божий и воздаяние грешников – анафема!
В этот день мать плакала:
– Жалко их… Господи!
Исповедь
Ну, Господь тебя простит, сынок… Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено, – напутствовала меня мать к исповеди.
– Деньги-то в носовой платок увяжи, – добавил отец, – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в «орла и решку» и батюшке отвечай по совести!
– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.
Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:
– Простите меня, Христа ради!
На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.
Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.
– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.
– Исповедаться! – важно ответил я.
– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой-мучеником», – осклабился дворник.
На это я буркнул: ладно!
Мои приятели – Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.
Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.
– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька. – В пальто новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая![52]
– А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом: