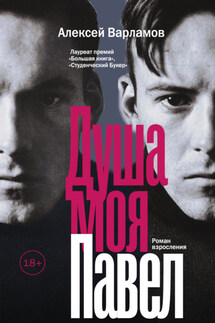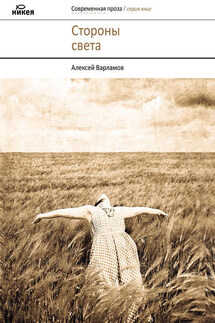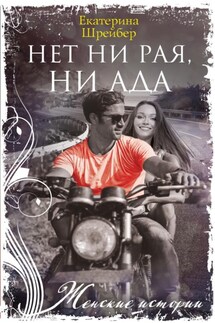Душа моя Павел - страница 24
– Ты их ведь тоже понять должен, – говорил Эдик, пуская кольцами дым. – Они бы вечерком Би-би-си включили или «Голос Америки» послушали, анекдот бы какой рассказали, поспорили бы про «Солидарность» или Афганистан, а тут ты со своей комсомольской рожей. Ну как тебя такого принять? Они ведь считают, что тебя специально подселили к нам, чтобы ты стучал. И не просто стучал. Этим никого не удивишь. А вот чтобы мы сразу поняли, что ты стукач. Ты не надо, ты мне не отвечай сейчас. Я тебя за это, парень, не осуждаю. Я же знаю, каково это – в университет не поступить. Сам с третьего раза попал. А на нашу структуралистику еще труднее пробиться. И если бы мне предложили, если б сказали: берем тебя, мужик, а ты за это нам время от времени будешь что-нибудь рассказывать… Я тебе честно скажу: не знаю, что б ответил. Человек ведь никогда не знает, как он себя поведет. Думает, что герой, благородный, а потом подлецом вдруг оказывается и сам не понимает почему. А бывает и наоборот…
Он замолчал, потом встал и отошел в сторону, принес несколько сухих веток и бросил их в костер. Пламя взметнулось, и вверх полетели искры. Павлик отодвинулся в сторону, потому что дым повалил прямо на него.
– А у костра всегда кажется, что дым на тебя идет, – заметил Сыроед. – Есть такая песня несуразная «Дым костра создает уют». Интересно, кто ее сочинил, хоть раз у костра сидел?
Он открыл бутылку и протянул Непомилуеву:
– Будешь? А я выпью. А может, ты и не стукач никакой. Иногда ведь наговаривают на людей. Кто тебя знает? Это уж ты сам с собой разбирайся. Да и какая мне разница? У тебя своя жизнь, у меня своя. Встретились на этом поле случайно, а дальше каждый своей дорожкой пойдет. Но раз уж встретились, я тебя знаешь что, Павел, попрошу: ты всё-таки выпей со мной. А то ты меня как будто презираешь.
Павлик помедлил и отпил из бутылки. Совсем чуть-чуть. Потом пошевелил тлеющие угли, выкатил оттуда картофелину и протянул Сыроеду:
– Бери.
Вспомнил, как Сыроед протягивал ему днем «жувачку». Сыроед тоже вспомнил, и Павлику показалось, да нет, показалось, конечно, что структуралист покраснел и на глазах у него навернулись слезы. От дыма, наверное.
– Слышь, Пашец, а ты кому-нибудь завидуешь? – спросил Сыроед, помолчав, и подул на картофелину.
– Не знаю, нет, наверное. А зачем?
– Зачем? – задумался Сыроед. – Зависть – сестра соревнования, а следственно, хорошего рода. Так Пушкин сказал. Значит, есть зачем. А в то же время Сальери у него Моцарта из зависти отравил. Какой уж тут хороший, на фиг, род? Противоречие, однако.
Он хлебнул еще из бутылки и стал, обжигаясь, есть картошку прямо с обугленной кожурой.
– А знаешь, чья зависть по-настоящему родная сестра? Справедливости. Вот все говорят, что справедливость, мол, хорошая вещь, а несправедливость – плохая. Так? Но ведь и Сальери более всего убивала несправедливость: ну почему не ему, а этому гуляке всё досталось? Это ж несправедливо. Мы оттого завидуем, что не можем несправедливость принять. Почему один родился в семье богатой, а другой в бедной? Почему одного родители любили, другого нет? Почему одни в спецшколах и университетах учатся, а другие в ПТУ идут? И всё это страшно нечестно, неправильно, несправедливо. И все революции от этого, и войны, и мятежи. – Сыроед прихлебывал и прихлебывал из бутылки и пьянел стремительно, радостно, как будто домой возвращался, и Павлику показалось, что ему хочется выговориться, а своим парням он не стал бы этого говорить, постеснялся бы, потому что из-под Электроуглей. А перед Павликом ему неловко не было. – Так что ничего хорошего в справедливости нет. Только я всё равно за справедливость. Такое вот у меня тоже противоречие.