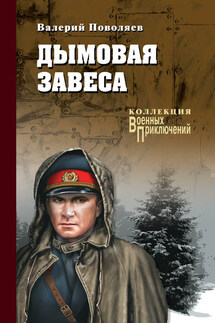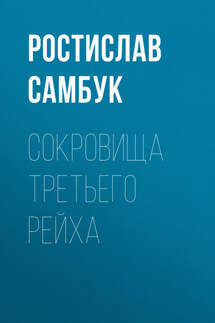Дымовая завеса (сборник) - страница 18
Дубы были вырублены, и когда Широков побывал на заповедном озере в последний раз, то на их месте зиял неровным безобразным квадратом глубоко вырытый котлован, на берегах которого в хищной рабочей позе застыли два экскаватора.
Таджиков не было – судя по всему, их вымели одним движением веника в сторону исторической родины, украшенной заснеженными горами, и целиком заменили на покорных стройбатовцев в старой, еще советской поры, хлопчатобумажной форме. Работали стройбатовцы, конечно, так же, как и таджики, ни шатко ни валко, лучше всего умели ловить мух раскрытыми ртами, – но им не надо было еженедельно выдавать зарплату… А это очень важный аспект.
Впрочем, по части рытья канав и вообще земляных работ специалистов, равных таджикам, в России все-таки не было, – они вообще могли прорыть колодец сквозь весь земной шар и вылезти на свежий морозный воздух где-нибудь в Антарктиде – пройти сквозь глобус было для них плевым делом… А вот по части машин и механизмов сообразительности у детей гор Памирских не хватало, на глаза наползала задумчивая поволока, они мигом теряли дар речи и, кроме протяжного «бэ-э-э», ничего не могли выговорить.
Так что не понять, просчитался бывший повелитель торговых рядов с кухонными сервантами, отправив таджиков домой, или нет.
Поглядел Широков на заморенных стройбатовцев, и у него на лице задергалась излишне нервная жилка – жалко стало этих ребят. Не думали они, наверное, что священный долг каждого российского гражданина – защищать Отечество до последней капли крови, – им придется выполнять здесь, на строительстве нужников и подсобных помещений будущего барского поместья… Но случилось то, что случилось.
Широков рубанул рукой воздух и, развернувшись слепо, неровно покачиваясь на ходу, словно бы у него болели ноги, покинул стройку. Обидно было, что кривда победила правду…
Ну а потом стало уже не до стройки, не до поисков правды: недаром Бузовский напрягался – натужные усилия принесли ему успех… Под суд Широков, конечно, не попал, но намяли ему бока здорово.
Не выводя его из-за штата, сняли с погон майорские звезды, – стал он капитаном, – а потом и вовсе предложили спороть погоны с кителя и отправили на гражданку, дотягивать положенный жизненный срок там.
Не помогло ничто – ни ордена, ни годы беспорочной службы, ни седые волосы. И стал Широков сугубо штатским человеком.
Впрочем, нет, не сугубо, душа его все равно продолжала находиться там, где Широков привык быть, – на заставах, в сухих звонких зарослях, за которыми проходила контрольно-следовая полоса, среди малоразговорчивых нарядов – на границе, словом.
Граница въелась в него, в кожу въелась, в поры, в корни волос, в хребет, стала частью его тела… Ну а где тело, там и душа.
Ехать было некуда. Родных у капитана не было, жилья тоже (те квартиры, которые предоставляли ему раньше, были служебные), перспектив тоже не было, поэтому осел Широков в первом приглянувшемся ему южном городке. Одно было хорошо – находился этот небольшой городок недалеко от извилистой тревожной линии, именуемой границей.
Хоть изредка, но все же до него будет доноситься запах нейтральной полосы, автоматной смазки, горелых гильз, остающихся после учебных стрельб. Для него это – запах жизни, запах прошлого, Анин запах…
Надо было думать о работе. Широков, как всякий боевой офицер, мог бы вполне пригодиться в местном патриотическом клубе – таковой в их незатейливом городке имелся, но два штатных места, оплачиваемых администрацией, были прочно заняты – не сдвинуть, – в этих креслах сидели молодые люди, связанные то ли с криминалом, то ли еще с кем-то или с чем-то, не очень вкусно пахнущим, и Широков молча отошел в сторону…