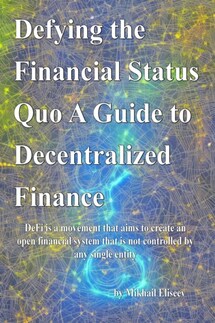Экономика и власть: опыт посткоммунистической трансформации - страница 27
Ряды сторонников подобного курса включали довольно разнородные группы хозяйственных агентов. Некоторые из них прямо выигрывали от инфляции, делая на экономической нестабильности огромные прибыли. Для других этот курс означал продолжение государственной финансовой поддержки и предотвращал их неминуемое разорение. В проведении политики «дешевых денег» были прежде всего заинтересованы слабые (хотя нередко и весьма крупные по числу занятых) государственные предприятия, в силу объективных или даже субъективных причин неспособные адаптироваться к конкуренции и обреченные на поражение в случае проведения макроэкономической политики, имеющей в своей основе жесткие бюджетные ограничения. Кроме того, этот курс был весьма выгоден значительной части финансовых структур, банкам: их экономическое благополучие, а нередко и само существование в значительной мере были обусловлены наличием льготных кредитов и бюджетных субсидий. Наконец, инфляция является источником исключительной доходности торгово-посреднической деятельности, что обусловливало соответствующие позиции этой части бизнеса в экономико-политическом спектре России. Иными словами, инфляционная политика позволяет неэффективным предприятиям выжить, а коммерческим банкам и торговым организациям получать прибыли, несопоставимые с доходами производственных секторов.
С другой стороны, на протяжении 1993 года формировались ряды сторонников альтернативного экономического курса. Курса, официально избранного еще в конце 1991 года и с большей или меньшей последовательностью проводившегося в 1992–1993 годах. Основными чертами его являются последовательная либерализация хозяйственной деятельности, жесткая финансово-кредитная политика, последовательное осуществление приватизации. Суть этого курса можно определить как антиифляционизм. Число его сторонников увеличивалось по мере проведения приватизации и адаптации части предприятий к работе в условиях реальной рыночной среды, открывающих для активных руководителей и квалифицированного персонала широкие возможности экономического и социального роста. Понятно, что в проведении последовательной антиинфляционной политики более всего заинтересованы те хозяйственные структуры, которые уже успели осознать свою экономическую силу, имеют неплохие возможности реализовать производимую продукцию в условиях конкуренции на внутреннем (или даже на мировом) рынке и уже готовы проводить активную инвестиционную политику, для чего в первую очередь необходима макроэкономическая стабильность.
Такое перераспределение интересов отразило новую и весьма важную тенденцию развития социальной ситуации в ходе реформ. Если раньше основной водораздел интересов проходил по линии принадлежности хозяйственного агента к государственному или частному сектору, то теперь принадлежность к той или иной форме собственности стала терять свое критериальное («интересообразующее») значение. Существенным фактором стало положение хозяйственного агента по отношению к перераспределительным потокам «дешевых денег» (единственному оставшемуся дефициту), его возможность использовать их в своих интересах. В результате по обе стороны этой «экономической баррикады» оказывались как частные, так и государственные предприятия.
В силу ряда политических причин реальная экономическая политика правительства на протяжении 1993 года была довольно неустойчивой. Уровень инфляции, колебавшийся от 12 до 35 % в месяц, отражал, по сути дела, конфликт между интересами альтернативных моделей экономического развития. Инфляция являлась фактически формой разрешения воспроизводящегося перераспределительного конфликта между хозяйственными агентами различных типов. Отсутствие или слабость структурных сдвигов являлись показателем прочности позиций проинфляционных сил, которым более или менее удавалось воспроизводить сложившуюся хозяйственную структуру при помощи ее денежной подпитки. Однако сохранение неустойчивого положения вовсе не означало сохранения социального статус-кво. В этом отношении происходили процессы двоякого рода.