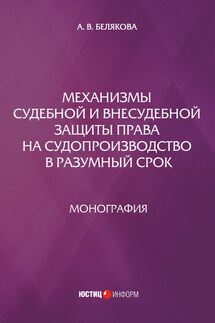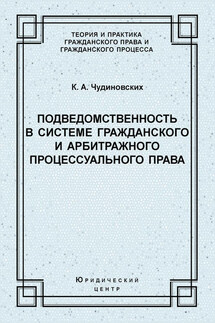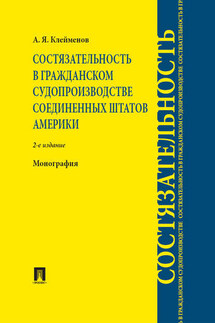Электронное гражданское судопроизводство в России: штрихи концепции. Монография - страница 11
в инновационной сфере в юридические права и обязанности зависят от характера инновационных отношений, которые очень разнообразны и потому требуют индивидуального подхода. Очевидно, что в процессе структурирования важно учитывать интересы и экономики, и правоведения, использовать единую методологию и категориальный аппарат. Основным представляется такой общий порядок действий для всей инновационной сферы, при котором первоначально осуществляется конструирование экономической модели регулируемых отношений, а затем уже экономическая модель перестраивается в юридическую (курсив везде мой. – В.П.)»>82.
«Электронизация» экономической модели общества отражается не только на обслуживающих ее правовых конструкциях, но и на самом правопонимании.
Ю.В. Тихонравов убедительно объясняет это следующим образом: «Объективное право как совокупность норм и правил, устанавливающих жесткий стандарт регулирования социальных отношений, не является универсальной завершенной конструкцией, эта модель, адекватная социальной системе на определенном этапе развития, но принципиальное изменение системы, ей переход на новый уровень развития, предполагает осознание и смену существующей модели также на принципиально новую (курсив везде мой. – В.П.)»>83.
Не остается в стороне от процесса формирования нового правопонимания и охарактеризованным выше политический фактор.
Как было отмечено, в качестве более совершенного способа управления в информационном обществе возможно использование модели, при которой управляющий и управляемый находятся в одном информационном потоке, не устанавливая личных отношений. Управление в таком случае происходит посредством «горизонтального» взаимодействия, участники которого имеют общую цель.
Размышляя на эту тему, Д.Ю. Боков приходит к следующему выводу: «Существенной особенностью новом модели может стать система ответственного саморегулирования как более тонкая и сложная форма контроля социально значимых действий. Презюмируется, что она содержит отказ от прямого директивного управления, на котором основана эффективность позитивного права, опирающаяся, фактически на грубую физическую силу»>84.
Применительно к цивилистическим процессуальным отраслям права столь существенная эволюция правопонимания повлечет изменение соотношения частного и публичного начал, которое уже констатируется специалистами>85.
Так, на основе достаточно серьезного исследования, Е.В. Слепченко пришла к следующему выводу: «Проблема соотношения частного и публичного в процессуальном праве – это одна из основных методологических проблем, значение которой трудно переоценить. Российский гражданский процесс все еще во многом носит характер не процесса сторон, а судебного процесса, в котором господствуют принципы расследования и поиска объективной истины; частное право, по крайней мере, с процессуальной точки зрения еще не в полной мере нашло свое место в российской правовой системе»>86. Из этого названный автор делает следующий вывод (к слову, подтверждающий наш приведенный выше прогноз): правосудие в настоящий момент «не может быть квалифицировано как нужная услуга, оказанная сторонам судебной системой при рассмотрении гражданских дел (курсив мой. – В.П.)»>87.
Следует признать, что наблюдаемое переосмысление соотношения частного и публичного права своей первопричиной имеет не только формирование информационного общества, но и постепенный уход от монополии позитивистского правопонимания советского периода развития юридической доктрины. Причем оба указанных фактора взаимно усиливают действие друг друга.