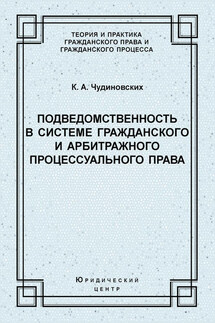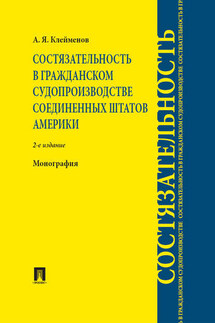Электронное гражданское судопроизводство в России: штрихи концепции. Монография - страница 22
Термин «судебное заседание» имеет вполне конкретное этимологическое значение. Он как минимум означает, что участники судебного разбирательства собираются вместе, как правило, в специально отведенном для этого помещении>157.
Учитывая, что ничего подобного в ходе приказного и упрощенного производств не происходит, судебное заседание без вызова заинтересованных лиц (предусмотренное прежней редакцией ч. 4 ст. 228 АПК РФ) на практике являлось фикцией. Это неоднократно отмечалось в литературе «Очевидно, что проведение полноценного судебного заседания без присутствия сторон невозможно: правило о его проведении приобретает фиктивный характер»>158. Применительно к приказному производству М.К. Треушников отмечает, что выдача судебного приказа в перерыве судебного заседания по гражданскому делу не является нарушением принципа непрерывности, поскольку этот вопрос решается судьей вне судебного заседания>159.
Не исключено, что именно ввиду подобных призывов правоведов в новой редакции гл. 29 АПК РФ, введенной в действие Федеральным законом № 86-ФЗ от 25 июня 2012 г., судебное заседание как форма разбирательства дела не упоминается>160.
Таким образом, возможность применения устной формы закрепления судебно-правоприменительной информации процедурой действующего упрощенного производства исключена. Оно полностью опосредуется электронной формой>161. Причем с ее использованием в порядке упрощенного производства при наличии согласия сторон может быть рассмотрено практически любое дело арбитражной юрисдикции (ч. 3 ст. 221 АПК РФ).
Неразрывное единство и диалектическая взаимосвязь содержательной и формальной характеристик информации, «циркулирующей» в рамках гражданского процесса по конкретному делу, наряду с «электронизацией» социальных коммуникаций образуют объективную (физическую) предпосылку перехода к так называемому электронному правосудию.
Задействовав охарактеризованный выше «информационный» подход к изучению процессуальных материй, зарубежная научная мысль начала осваивать электронную «территорию» на предмет возможного «поселения» на ней процессуальной информации немногим более двух десятилетий назад>162. Закономерным результатом этого процесса стала концепция «электронного правосудия», отдельные элементы которой в последние годы последовательно внедряются в российскую судебно-арбитражную юрисдикцию>163.
Выше я уже отмечал, что применяемый в отечественной литературе термин «электронное правосудие» представляется не слишком удачным по нескольким причинам. Во-первых, правосудие – это идеальная составляющая судебной деятельности>164, которая соответственно не обладает текущим внешним выражением и какой-либо формой (что исключает возможность именовать его электронным). Во-вторых, правосудие осуществляется только судом, а электронной формой опосредуются процессуальные действия также лиц, участвующих в деле. Наконец, в-третьих, правосудие – это деятельность, осуществляемая человеком (но не ЭВМ), что также исключает возможность применения к ней рассматриваемого прилагательного. Более подходящим представляется термин «электронное судопроизводство»>165.
Иностранные процессуалисты еще десять лет назад начали призывать законодателя к использованию преимуществ электронного способа передачи судебно-правоприменительной информации: «Будучи, по сути, информационной системой, гражданский процесс во многом приспосабливается к использованию современных телеинформационных технологий, в особенности в том, что касается преимуществ электронной почты. Поскольку процессуальное законодательство не содержит обязательных требований о том, что информация должна предоставляться в устной форме непосредственно при личном присутствии лица, ее предоставляющего, или ее адресата, это позволяет нам говорить об альтернативных способах предоставления информации лицами без их личного участия. В связи с этим