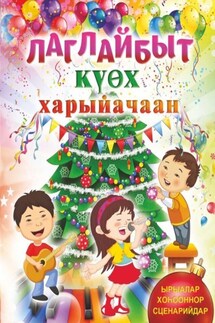Эмоциональный мозг - страница 2
Другие люди – ничем не заменимое зеркало, благодаря которому субъект не только осознает себя человеком, но и проверяет человечность, всеобщность своего восприятия окружающей действительности. «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него проявлением рода человек» [К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 23, с. 62]. Постижение природы человека, а следовательно, и своей собственной природы может носить характер научного познания во всех его разновидностях (философия, психология, антропология, социология, физиология и т. д.). Но отражательная деятельность мозга не исчерпывается знанием, добываемым наукой. Существует и второй путь, значение которого в развитии цивилизации подчас остается как бы в тени триумфальных завоеваний научной мысли. Рядом с «сознанием» функционирует «со-переживание».
Изучая человеческий мозг, наука имеет дело с коррелятами (речевыми, электрофизиологическими, биохимическими) психических процессов, но для нее остается недоступна их субъективная сторона. Методы науки не в состоянии познакомить нас с переживанием боли, удовольствия, радости, отчаяния и т. п. другого человека. Эту возможность дает только сопереживание, роль которого до сих пор в полной мере не оценена ни теорией, ни практикой воспитания.
Было бы ошибкой полагать, что функции механизма сопереживания ограничиваются одним лишь приобщением нас к внутреннему миру других людей. Представление о сопереживании как о чем-то архаичном, грубом, приблизительном по сравнению с мышлением и имея в виду его изощренную логику, право же несправедливо: вчувствоваться можно не менее глубоко, чем вдуматься. Мир переживаний, сопровождающих процесс общения между людьми, может быть чрезвычайно богат, усложнен и тонок, оставаясь невербализуемым. Достаточно вспомнить об эмоциях, возникающих при восприятии произведений искусства. Хотя одно и то же произведение вызывает у каждого зрителя свой ряд эмоций, в них есть нечто общее, то есть момент сопереживания. В противном случае каждое произведение имело бы очень узкий круг почитателей, а не служило миллионам людей на протяжении веков.
Двойственная природа психики, зависимость процесса отражения от объекта отражения и наделенного потребностями субъекта породили две основные разновидности, две ветви человеческой культуры, взаимно дополняющие друг друга: науку и искусство. Субъективная сторона внутреннего мира личности не является предметом нейрофизиологии, поскольку она не является предметом науки вообще. Отступая от преследующих его по пятам смежных дисциплин – нейрофизиологии, этологии, антропологии, социологии и т. п., психолог в определенный момент оказывается на территории, где он чувствует себя недостигаемым для представителей этих отраслей знания. С облегчением он осматривается вокруг и обнаруживает, что находится на территории… искусства.
Нам было важно остановиться на общеметодологических вопросах для того, чтобы сразу же недвусмысленно определить свой подход к проблеме эмоций. Информационная теория эмоций, которой будет посвящено все последующее изложение, не является ни только «физиологической», ни только «психологической», ни тем более «кибернетической». Она неразрывно связана с павловским системным по своему характеру подходом к изучению высшей нервной (психической) деятельности. Это означает, что теория, если она верна, должна быть в равной мере продуктивна и для анализа явлений, относимых к психологии эмоций, и при изучении мозговых механизмов эмоциональных реакций человека и животных. Ее истинность или ложность должны быть доступны проверке как в психологических, так и в нейрофизиологических экспериментах. Наконец, она должна находить подтверждение в педагогической и клинической практике, в художественных произведениях, посвященных описанию внутреннего мира человека.