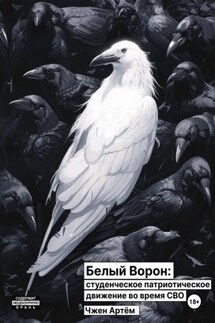Епархиальные реформы - страница 7
Такая детализация бумажного производства касалась и низших инстанций. Протоиерей Иоанн Чижевский, помимо уже упомянутой нами работы, составил насчитывающий 370 страниц справочник по церковному письмоводству для благочинных и настоятелей церквей[78]. Согласно приводимым здесь сведениям, каждый благочинный должен был в год подавать в консисторию около полусотни рапортов и бумаг (в том числе и при препровождении различных денежных сборов), это – не считая каких-либо исключительных (что не значит – редких) случаев, связанных, например, со смертью священника, починкой церкви[79].
Такая бюрократизация соединена с усилением связи государства с Церковью[80], становлением «государственной церковности»[81]. По мнению СВ. Римского, через введение УДК епархиальное управление «уподобилось высшему светскому, то есть перешло под контроль государственных чиновников – обер-прокурора и его подчиненных»[82]. Речь здесь идет о секретарях духовных консисторий.
Назначение и увольнение секретарей консисторий совершалось помимо епархиальных архиереев. Формально занимая скромную должность начальника канцелярии, секретарь на самом деле стал ключевым лицом в консисторском правлении. Действительно, отмечает Римский, «растет бумажный вал, с которым могли справиться только специальные структуры», а именно – чиновничьи структуры, специально занимающиеся делопроизводством, оформлением дел в соответствии с законодательством, составлением к делам многочисленных справок из законов. Итак, вся сложная подготовка дел, от которой во многом зависели определение присутствия консистории и резолюция архиерея, была сосредоточена в руках чиновников под руководством секретаря[83], который не только назначается помимо архиерея, но и,
находясь под ближайшим начальством епархиального архиерея, состоит вместе с тем в непосредственном ведении обер-прокурора Святейшего Синода, как блюстителя за исполнением законных постановлений по духовному ведомству[84].
По УДК, независимо от присутствия консистории и даже от епархиального архиерея, секретарь «представляет обер-прокурору Святейшего Синода срочные сведения»[85] и получает от него предписания[86].
Таким образом,
секретарь стал как бы личным представителем обер-прокурора и чувствовал себя настолько уверенно, что мог совершенно не опасаться архиерейского неудовольствия, напрямую обращаться к своему столичному начальству и сообщать ему обо всем так, как находил нужным[87].
Из изложенного выше мы можем сделать вывод о том, что консистория фактически являлась частью государственного аппарата, «присутственным местом», действовавшим, как любое гражданское присутственное место, согласно своему уставу и множеству церковно-государственных узаконений. Заметим, что по приведенному выше определению УДК, консистория являлась не вспомогательным органом для архиерея, но местом, «чрез которое, под непосредственным начальством епархиального архиерея, производится управление». Это выражение можно понимать в том смысле, что епархия управляется Святейшим Синодом, хотя и опосредовано, через консисторию и епархиального архиерея, как показывает ст. 2 УДК:
Консистория, вместе с епархиальным архиереем, состоит в ведении Святейшего Синода, яко Правительствующего Российской Церкви Собора, от одного Синода принимает указы, и кроме Синода и епархиального архиерея, никакое другое присутственное место или начальство не может непосредственно входить в ее дела, ни останавливать ее решений и распоряжений во всем том, что принадлежит к кругу действий духовного ведомства.