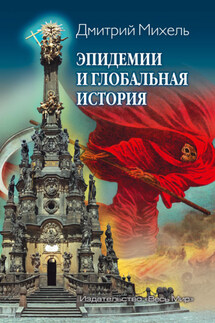Эпидемии и глобальная история - страница 20
Характерной особенностью периода V–XII вв. было слабое развитие врачебной медицины. Помощью врачей, использующих наследие античного медицинского знания, могли пользоваться очень немногие знатные люди, главным образам в городах Италии. К северу от Альп практически все население, включая королей, пользовалось услугами многочисленных и разнообразных народных целителей, от колдунов до святых110. Однако даже после XII в., когда появились первые университеты с их медицинскими факультетами и несколько выросло число врачей, роль медицинских знаний на средневековом Западе продолжала оставаться незначительной. В частности, в народных представлениях о болезни господствовали магические объяснения, а духовенство пропагандировало библейскую точку зрения на болезнь как результат Божьего наказания за грехи. При этом в период раннего Средневековья священники часто пользовались популярными магическими объяснениями, что было проявлением тесной связи между культурой клириков и народной культурой.
Сразу после падения Римской цивилизации и в условиях весьма слабой политической власти на территории варварских государств духовенству пришлось взять на себя исполнение многих важных административных функций. Наряду с организацией элементарного образования и оказания моральной помощи нуждающимся многие епископы и приходские священники руководили организацией разнообразных общественных работ. Так, в Италии, Франции и других местах им, например, часто приходилось бороться с последствиями наводнений, строить плотины и осуществлять дренаж на затопленных землях. В исторических хрониках и житиях этого времени такие работы традиционно описывались с помощью весьма запутанного языка символов, в результате чего о самом их факте специалисты догадались далеко не сразу. В частности, раннесредневековые авторы изображали эти общественные работы как мистические сражения святых с драконами, которые чаще всего оканчивались не уничтожением чудовищ, а их укрощением и изгнанием. В самом начале 1970-х гг. Ж. Ле Гофф предпринял попытку дать объяснение этим сюжетам, взяв случай с полулегендарным Марцеллом Парижским, который традиционно считается основателем первой христианской общины в Париже в начале V в. Согласно Ле Гоффу, победа святого Марцелла над драконом была ничем иным, как актом основания нового поселения (знаменитый парижский квартал Сен-Мишель, ныне территория Ботанического сада в Париже)