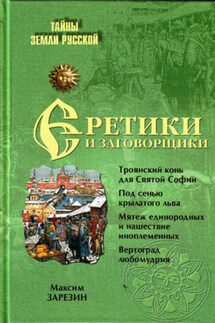Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. - страница 39
Паломничество Иосифа больше похоже на попытку, используя благовидный предлог, завязать сношения с частью черного духовенства, настроенного оппозиционно по отношению к великому князю. В ту эпоху монашество играло заметную роль в политической борьбе. Повествуя о заговоре Дмитрия Шемяки против Василия Темного, летописец отмечает: «Мнози же и от Москвичъ в думе с ними бяху, бояре же и гости; бе же и от чернцов в той думе с ними».
В то время как одни «чернцы» стояли за Шемяку, другие держали сторону великого князя. После того как поверженный Василий Темный дал клятву Шемяке жить с ним в мире, великий князь заехал в Кириллов монастырь, где игумен Трифон обратился к нему со следующими словами: «Тот грехъ на мне и на моеи братии в головах, что еси целовал и крепость давал князю Дмитрею. И поиде государь з богом и своею правдою на великое княжение на свою вотчину на Москву, а мы за тебя, государя, бога молим и благословляем». Великий князь послушал настоятеля, выступил против узурпатора, и в междоусобной брани наступил долгожданный перелом.
В то время, когда над Русью нависла угроза очередной смуты, «чернцам» снова предстояло делать выбор – Иосиф Волоцкий свой сделал. У Ивана III имелись свои сторонники среди авторитетных клириков: прежде всего Вассиан Рыло и Паисий Ярославов, но Вассиан умер вскоре после Угорщины, а Паисия следует признать праведным старцем, но не политическим бойцом. Противников было куда больше, и, кроме того, возглавлял их не кто иной, как предстоятель русской церкви митрополит Геронтий.
Я.С. Лурье считал, что «идеология Геронтия была идеологией крупных феодалов, враждебных централизованной власти, но неспособных противопоставить этой власти какую-либо положительную программу», и поэтому сторонники митрополита ограничивались «только критикой отдельных актов великокняжеской политики и проявлений “силы” со стороны Ивана III». Исследователь предлагает искать основную причину оппозиционности митрополита в политике Ивана III по отношению к церковному землевладению. Ко времени Геронтия относится ряд мероприятий, направленных против духовных феодалов: в 1478 и 1480 годах великий князь конфисковал значительную часть владычных и монастырских земель в Новгороде.
Думается, Я.С. Лурье несколько преувеличивал оппозиционность Геронтия и иже с ним, возводя ее в ранг «борьбы церкви с великокняжеской властью». Митрополит на самом деле был недоволен и не только земельными изъятиями. Долгое время митрополиты и великие князья работали рука об руку в деле собирания русских земель, но в этом деле они считали друг друга равноправными партнерами. Над митрополитом и великим князем была высшая инстанция в лице византийского императора и константинопольского патриарха. Но после Флорентийской унии и падения Константинополя в 1453 году эта иерархическое навершие исчезло.
Долгое время границы церковной юрисдикции митрополита далеко превосходили пределы земель, подвластных московским светским властям, а число духовных чад значительно превышало число подданных московского государя. Но после существенного расширения московских владений, главным среди которых стало присоединение Новгорода, то есть к моменту, когда Геронтий заполучил митрополичий посох, эта разница практически стерлась. Великий князь стал воспринимать митрополита не как главу могущественного независимого института, а как своего рода «заместителя по церковной части», что последнему, разумеется, не могло прийтись по вкусу.