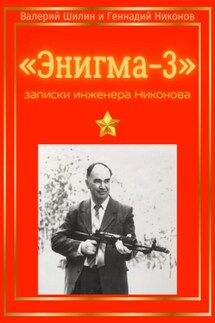Это жизнь, детка… Книга рассказов - страница 46
Мы, посмеиваясь, перемигнулись с Дмитриенко.
Насчет чего-чего, а ум я никогда не пропивал. Крепкий, свежезаваренный чай после хорошей выпивки, конечно, употреблял, что было моему тестю непонятно: зачем чай снова заваривать, когда еще со вчерашнего вечера заварен целый чайник…
Саше Дмитриенко то ли понравились речи «Лексеича», то ли ему не хотелось идти в избу одному, поставил сумку к ногам моего тестя —
«Сторожи, дед!» – подхватил у забора лопату и пошел молотить землю так, что я едва поспевал за ним.
«Лексеич» хотел что-то возразить, но, вероятно, раздумал и, сердито стуча бадиком, пошел снова к дому.
У Саши в избе порядок. Половички еще материны, лоскутные. В углу стоит печь-голландка: с одного бока плита для хозяйства, с другой стороны камин для души и удовольствия. Напротив, со стороны камина, новая двуспальная кровать, застеленная плюшевым, в экзотических ярких цветах одеялом-накидкой – последняя реликвия семейной жизни. Было видно, что эта кровать давно не использовалась по назначению. Сам Саша спал на небольшом складном диванчике, вместо матраца служило ватное одеяло в продольную стежку, как на телогрейке, в головах вместо подушки лежал еще с милицейских счастливых времен форменный темно-синий бушлат в скатку.
Наверное, Саша встал с этой постели недавно и то только для того, чтобы достать выпивку, действительно, что он, алкоголик, что ли, – пить в одиночку?
Саша из тумбочки вытащил свой долгоиграющий заветный диск и включил радиолу.
Из двух расположенных по углам вместо икон динамиков хлынула знаменитая скорбная песня о белых офицерах, гонимых со своей земли красными ордами:
Четвертые сутки пылают станицы.
Набухла дождями донская трава.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
Саша не пьет. Выжидательно смотрит на меня. Не улыбается. Вот, мол, смотри, что негодяи с защитниками Отечества и русской веры сделали! А при словах «И в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в номера» горько мотает русой головой, наливает полстакана самогонки, резко откидывается, вливает в себя содержимое, опять горько качает головой, ловко, двумя пальцами, подхватывает в трехлитровой банке огурец собственного посола и медленно всасывает его сердцевину, растворившуюся от рассола – самый смак для выпивающего.
Саша сидит, как истинный участник тех далеких трагических событий. Сейчас он князь Оболенский, попавший в окружение большевистских банд. Он будет отстреливаться до последнего патрона. До самого смертного часа.
Саша наливает еще стакан, предлагает мне, затем безнадежно машет рукой и выпивает сам.
Горючего осталось мало. Боеприпасы кончаются. Кругом залегли комиссары.
Ах, русское солнце! Великое солнце.
Корабль «Император» застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся?
Зачем нам, поручик, чужая страна?
Саша обхватывает голову руками, и первая, самая светлая слеза на его белесых, выгоревших ресницах.
Он держит голову руками и тихо стонет, но уже над другой песней о земляках-казаках.
– Сволочи! Всех порублю! Всех!
Мне тоже почему-то захотелось выпить за русскую былую славу, за оплот Российского государства, за казачьи засеки, секреты и заставы. «Россия лежит на черпаке казацкого седла».
Я наливаю себе вонючий, пахнущий дурнотой перегон и тоже выпиваю, подхватив, как и Саша Дмитриенко, небольшой одутловатый огурец, и высасываю его сердцевину. Нет! Надо идти домой, в семью. Так здесь не мудрено и спиться. Саша берет меня за плечи. Снова трясет головой. Божится к праздникам починить лодку и уплыть к… (он говорит самую распространенную русскую фразу и валится на диван).