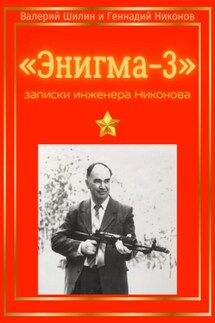Это жизнь, детка… Книга рассказов - страница 61
Надел чистый тельник, усы подстриг, одеколоном волосы взбрызнул, и пошел писать…
Сидели, выпивали. Братья только посмеивались – Чудит Петька! Опять за старое взялся. Забыл мамонтовских опричников. Небось, все штаны обвалял, сидя на печке. Братаны обиды за своих использованных жен не вспоминают. Снохач – куда денется! В жизни и не то бывает! Вожжами отходили гулевых благоверных, а Петраку вида не подачи – стыдно.
Сидит Петр Петрович со своими, планует, – как они будут жить в колхозе общим хозяйством. У тебя мясо в щах, а у меня водица, вот и будем вместе обедать. Всю деревню под гребенку причешем. Ничего! У кого в амбаре зерно, а у кого мыши. Все будут жить одинаково. «Я – говорит Петр братанам, – вас в люди выведу. Вон у Митрия Косого корова от бескормицы сдохла, – во время сено не накосил, ну, запой случился, а у вас, как в Библии писано, – семь коров и все тучные. Вот и поделитесь. Братья переглядываются, самогонку на жженом сахаре подливают, Петрака угощают:
– Пей братец, ты у нас теперь заместо папани. Твое слово – закон!
К вечеру Петр Петрович захорошел, домой собрался, встал – пошатывается. Усы подкручивает.
Братья ему еще «на посошок» наливают:
– Внедри! Не чужие ведь!
Дверь-калиточку отворили – «Иди! Иди! Не спотыкайся!»
Запозднился Петр Петрович. Ночь, как яма провальная. Ступить ногой некуда. Споткнулся о жердину невесть откуда взявшуюся на дороге. «Мать-перемать!» Упал. Но встать ему уже не пришлось. Блеснули в глазах брызги огненные, как залп корабельной пушки – и все. Глухо.
Евдокия к этому времени корову подоила, по дому управилась:
«Пойду к Бажулиным, что-то хозяина долго нет?»
Пришла. Братья у рукомойника руки полощут.
– Был Петр Петрович у вас?
– Был.
– Пили?
– Пили.
– Когда ушел?
– Да, вот, только ушел.
Пошли искать вместе. Керосиновой фонарь прихватили: в ночи прорехи делать. Идут по дороге – батюшки! В лохмотьях света вот он – Петр Петрович кровью улитый распластался на дороге – не пройти. Как у себя дома. Подхватили за руки, за ноги, принесли в дом к Евдокии. Положили на пол, как мешок с картошкой. Тяжел черт!
– Ничего, Евдокия! Протрезвеет к утру, как новый будет, – смеются.
Не протрезвел Петр Петрович. Мычать стая только на вторую неделю. Кого виноватить? Кому жаловаться! Шел пьяный, упал, проломил голову, а обо что проломил, в темноте разве разглядишь? Ночи-то – глаз выколешь!
Братья теперь почему-то ласковы стали. Помощь предлагают. Дров на две зимы привезли. «Топи Евдокия! Зимы-то теперь ужас, какие морозные».
Денег сколько-нисколько, а дали. Родня все-таки! Лечи Петруху, может, очухается! Да разве деньгами вылечишь.
Кормила Евдокия Петра Петровича, как малого ребенка. Сам он запамятовал, где рот находиться, куда кашу класть. Возьмет ложку, зачерпнет из блюда, и сует ее то в глаз, то в щеку тычет, рта не найдет. Мучается. Бросил ложку. Мычит, корми, мол, Евдокия сама. И плачет, и плачет. Ходить совсем не мог. Перевернет она его на постели, а он опять мычит. На двор хочет. Мужик неподъемный, за сто килограмм потянет. Боров, а не мужик.
Мучается Евдокия, а плакать – не плачет. А, как будешь плакать, коль такой груз свалился! Дети: «Папаня, папаня!», а он, – вроде, как чужие ему, глаза не поворачивает, смотрит куда-то вдаль, вроде, манят его оттуда…
«Ну, ничего, – это она мне так рассказывала – Господь навстречу пошел. Убрался мой Петр Петрович к весне. Я его обрядила во все флотское, как он любил. Еще неношеное в сундуке лежало, от царя запасец. Братья Бажулины пришли. Народишко собрался. Вздыхают: „Ить, какой конь был!“ Хоронили без попа. Коммунист все-таки. Да и где они попы в энто время, когда церква все порушили. У нас в Сатинке одна стояла, да и ту два раза взрывали, обкусали всю с боков-то, а она стоит, только ветер скрозь ее гудет недовольно. Осталась я одна с Колей да Лизаветой. Живу – куда денешься! Тяжело. Хозяйство неподъемное все в одних руках бабьих».