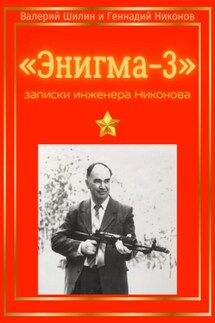Это жизнь, детка… Книга рассказов - страница 64
Евдокия от радости не знала, куда себя и деть. Сразу за веник и щетку. Воды нагрела, Колюша ей помогал ковры на воздух выносить, чтобы они ветерка да морозца схватили, надышались. Окна смеяться стали. Солнце по крашеному полу на цыпочках ходит, осторожничает. На сковороде, да в кастрюлях ворочается, скворчит, преет. Григорий Исаакович тоже, ничего мужик, хоть и одессит природный. Не каверзничает. Ну, и что ж, что одессит – у Бога все люди.
Глафира довольна. Детям одежку справила. Евдокии со своего плеча полушубок смушкой отороченный пожаловала. «Мы, – говорит, – Дуняша, с тобой, как родные. Живи, сколько сможешь. Места всем хватит. А твоего Колечку учиться определим. У моего Исаака связи в Москве, да и парень твой смышленый. Вон из школы одни пятерка носит. А Лизонька, как дите мое».
Так и жила Евдокия Петровна в семье начальника шахты, как у Христа в ладони.
Какая по дому работа? Баловство одно! Вон из деревни пишут – голод косой прошелся, урожайная зима видалась. Считай, половина сельчан убрались. А здесь – чисто, сухо, тепло и о хлебе думать не надо. Григорию Исааковичу продукты на машине подвозят. Забирай Евдокия! Успевай готовить! Слава тебе, Господи! И Глафире Марковне тоже спасибочко – приютила.
Григорий Исаакович, ничего не скажи, покушать любил хорошо, в свое удовольствие. А почему не покушать? Щучку фаршированную так разделает, что и убирать нечего. Бывало, вложит в щучью пасть огрызок хвоста и кричит: «Петровна, что же ты не доглядела? Щука-то сама себя за хвост уцепила! Спой-ка мне Евдокия свою любимую песню!» Я и запою – «Когда б имел златыя горы…» Сидит, слушает. Потом скажет: «Что же вы, Евдокия, такие русские? Как дети. Всё – когда б, да если б. Когда бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой». И смеется. Шутил, значит. Баклажанчики, как поросятки на тарелке. Ну, само собой, маца. Куда же ему без мацы? Гланя над ним смеется, говорит: «Чесночный ты человек, Гриша! Потому и спим мы с тобой на разных постелях.
Чудно спали. Вроде, супруги, а кровати разные. По-барски жили, по-старинному. Чин по чину. Людей в смущение вводили. А люда-то мы все завидущие. Как говориться: «Руки наш грабли, очи наши ямы. Что очи увидят, то руки загребают».
Постучали однажды тихонечко в дверь.
На дворе ночь глухая. Осень. Дождит. Кто бы это? Может родственник, какой издалека? Евдокия к двери. Человек в дом просится. Открыть надо. Григории Исаакович, как был в исподнем, так в исподнем и к ней, к Евдокии. Трясется весь. Какой-то узелок махонький в руки сует: «Возьми – говорит, – Евдокия! Тебя обыскивать не будут, какой с тебя спрос? А с меня спросят». Узелочек в щепотку одну, чего его прятать? Глянула, а там камушки радугой отсвечивают, глаза колят. Евдокия и обомлела. Никак с обыском пришли? Значит, черед подоспел. А у нее детки. Куда эти камешки задевать? Возле умывальника стакан с водой стоял. Она туда узелочек-то этот и опорожнила. «Уж, больно испугалась тогда!» – вздыхала Евдокия Петровна.
Гости оказались расторопными. Шваркнули хозяина к стенке лицом и в горницу. «Я, было, к Глаше в спальню улизнуть хотела, – рассказывала бабушка Дуня, – помочь ей собраться перед людьми лихими, служилыми. Женщина все-таки. А мне кричат: «Стоять! Ни с места!» Я так и опустилась на пол. Дурой была. Чего бояться? Не за мной ведь пришли. А пуженый заяц и куста боится. Так вот! Гляжу, Глафиру из спальни за руки выводят. Рубашка короткая, еле коленки прикрывает. На стул ее сажать стали, а она со стула сползает. Глаза сквозь стену смотрят, широкие, вроде, удивляются чему. Хлестанулась головой об пол, и лежит навзничь, потом дугой изгибаться стала. Я ей срамоту шалью, которая на мне была, кое-как прикрыла, а она дробить пол ногами начала. На губах пена, как взбитые сливки, доползла, куда красота и делась? Зубами стучит. Ощерилась. Ей красноармеец снял буденовку и шишаком в рот запихивать стал. Ну, вроде, угомонилась. Заснула, да так, что храпеть стала. Посмотрел на нее старшой, махнул рукой: «Припадочная – говорит. – А какая баба была! Ягодка!» Сидит за столом и у меня, как звать, спрашивает, и в бумагу пишет. «Я – смеется, тебя тетка и так знаю. Ты баба рязанская. Своя. Жена активиста. Понятой будешь. Да и расскажешь, как они, эти враги народа, жили? Какие разговоры вели? А, какие от меня – разговоры? Нешто они с прислугой говорить будут? – я ему толкую. – Мое дело у печки стоять, да чугуны двигать. У меня свои ребята рты разевают – когда мне прислушиваться? Не-е, мне не до разговоров. Да и богатства у них особого нет. Казенное все. А, платить мне они платили. Как же не платить? Я же у них в работниках! «Закрой рот, говорунья! А то и тебе придется туда варежку запихивать. Смотри и запоминай, что мы здесь искать будем. А потом распишешься, как по закону». Ну, и пошли шерстить все подряд. Знали, наверное, что искать. Каждую строчку в белье прощупывали. «Куда – говорят, – троцкист поганый, народные драгоценности дел? Мы, – говорят, твою задницу наизнанку вывернем. Да и у жены знаем, где искать. Сам все расскажешь».