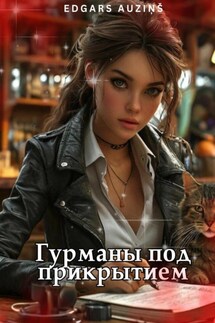Эвакуация. 1941—1942 гг. - страница 26
Словом, нет никаких сомнений: Россия была для них не цель, а средство. «Ликвидировать» ее им хочется как можно скорей, иначе не удастся развернуть ситуацию в Европе и мире в пользу Германии, оспаривающей у Англии статус мирового гегемона.
Пожалуй, стоит еще процитировать Гальдера. 25 июня 1941 года, когда вторжение в СССР уже произошло, фюрер сообщает Муссолини, почему это случилось, и, между прочим, уверяет своего итальянского коллегу, что «война против России имеет своей целью победу над Англией». Вроде не было у него в этом случае повода лукавить.
Таким образом, блицкриг – это не от профессионального зазнайства, а в силу жесткой необходимости: либо так, либо никак. К тому ж у них есть опыт молниеносного разгрома Польши и Франции, о котором они постоянно с удовлетворением вспоминают, а у СССР, напротив, – провальный опыт финской кампании. Фюрер и его сподвижники не сомневаются в успехе, но готовятся тщательно, чтоб уж наверняка, и потому раз за разом отодвигают дату начала. На первых порах называли 1 апреля 1941 года, потом переориентировались на 16 мая, однако еще в апреле переключились на 22 июня, но и эта дата была под вопросом, пока 30 мая Гитлер не подтвердил ее окончательно. После того обсуждалось только, в котором часу удобней начать вторжение: глубокой ночью или под утро?
Главные трудности
Не следует, однако, думать, что скоротечные победы над Польшей и Францией настолько вскружили головы наследникам германского имперского милитаризма, что они утратили чувство реальности. Генералы из ОКВ и ОКХ были людьми достаточно трезвомыслящими, чтобы понимать: механическое перенесение европейского опыта ведения «молниеносной войны» на российские равнины не пройдет. Не будем тешить себя патриотическими иллюзиями: как раз «особой стойкости» русского народа, с которым будто бы сам Отто фон Бисмарк своим соплеменникам не советовал воевать, Гитлер не опасался – тем более после провальной финской кампании РККА. Более того, он откровенно делал ставку на слабость советского строя, и для того были реальные основания[43].
По-настоящему заботили разработчиков плана проблемы, которые вытекали из гигантских размеров евроазиатского «Голиафа». Назову хотя бы три – самые очевидные.
Во-первых, оцените возможность собрать на границе протяженностью в несколько тысяч километров ударную группировку всеевропейского масштаба (имею в виду не только количество дивизий, но и участие государств-сателлитов) – да чтобы незаметно, не привлекая внимания противника, иначе ведь не получится никакой внезапности.
Во-вторых, сразить противника надо одним мощным ударом, иначе начнется затяжная война, к которой нужно готовиться совершенно иначе. О затяжной войне Гитлер и мысли не допускал, понимая, чем она опасна для Германии в принципе, а в протяженной на многие тысячи километров России – особенно.
В‑третьих, надо ударить так, чтобы «уничтожить жизненную силу России» (напоминаю, что так записал мысль фюрера генерал Гальдер): чтоб ненавистная страна не только не смогла подкинуть откуда-нибудь из неоглядных сибирских просторов свежие дивизии, не учтенные в разведданных, но навсегда утратила бы способность возродиться как государство.
С подобными проблемами вермахту не пришлось иметь дело в Европе: там расстояния не те, да и с каждой европейской страной гитлеровцам удавалось разделаться поодиночке, не оставляя им времени договориться для совместных действий. А Россия (конечно, СССР, но на своих совещаниях они предпочитали называть страну Россией) – хоть и не монолит (как они резонно полагали), но единый массив. Словом, разработчикам плана «Барбаросса» пришлось столкнуться с новыми для них проблемами, причем с решения как раз их – на первый взгляд, неразрешимых – пришлось начинать, иначе все остальные пункты дерзкого плана «молниеносной войны» «обнулятся».


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)