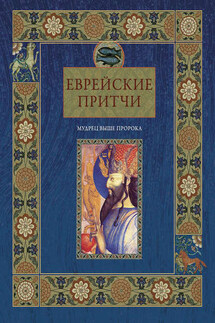Эволюция потребления. Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней - страница 67
Наконец, города становились площадкой для нового общения. Их рост способствовал мобильности населения, в результате которой увеличивалась коммуникация между незнакомыми людьми. Репутация и идентичность становились менее четкими. Одежда превратилась в способ самовыражения, с помощью которого человек демонстрировал, кем он является или кем хочет казаться. Набирала силу новая культура внешности. Английский и голландский философ Бернард де Мандевиль написал в своей «Басне о пчелах» в 1714 году, что «птица красива своими перьями [одежда красит человека], и незнакомым людям обычно оказывают почет в зависимости от их одежды и дополняющих ее деталей внешнего вида; по ее богатству мы судим об их состоянии, а по тому, как они ее носят, мы догадываемся об их уме». В заключение Бернард де Мандевиль написал, что «именно это» заставляет человека «носить одежду, подобающую лицам, стоящим выше его по положению, особенно в больших и густонаселенных городах, где ничем не прославившиеся люди могут ежечасно встретить пятьдесят неизвестных на одного знакомого и, следовательно, получат удовольствие от того, что большинство людей будет считать их не тем, чем они являются, а тем, чем они кажутся по внешнему виду»[216]. Из-за анонимности в городе стало проще получить одобрение и сойти за человека с более высоким статусом. «Эта золотая мечта», как ее называл де Мандевиль, заставляла людей подражать и маскировать свое истинное положение, а спрос на вещи – расти.
Нетрудно догадаться, что потребительские товары играли важную роль в формировании индивидуальности. Одежда, аксессуары и манеры составляли систему социального позиционирования. Торговцу, недавно приехавшему в город, труднее было привлечь покупателей, если он был одет как деревенщина, а покупателю, одетому не по моде, труднее было получить кредит. Создать собственный стильный образ было ничуть не менее важно, чем построить доверительные отношения и произвести впечатление на других. Молодые рабочие на свою первую заработную плату покупали приличный комплект одежды: именно одежда говорила о рождении новой, зрелой личности. В то время темп жизни в городе сделал личное пространство особенно ценным, и горожане предпочитали укрываться за задернутыми занавесками и в уединении наслаждаться уютом своего дома и своим имуществом. Как раз в этот период начал формироваться образ своего «я», за три века до появления «Я-концепции»[217].
В мыслях о вещах
Карл Маркс считал, что западный капитализм отделил людей от мира вещей. Возвышение Западной цивилизации, согласно мнению этого влиятельного ученого, создало у людей уникальную способность абстрагироваться от объекта, видеть в нем безжизненную вещь, которую можно обменять на деньги, в то время как в родоплеменных культурах вещи боготворили, приписывая им магические силы. Чем больше вещей приобретали представители западной культуры, тем меньше они о них заботились. Многие обвиняли эпоху Просвещения в том, что жители Запада зациклились на своем «эго». Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, основателей неомарксистской Франкфуртской школы, это обстоятельство заставило позабыть об «инструментальном рационализме». Согласно некоторым антропологам, Запад проводил более четкую линию между людьми и вещами, в отличие от близких к природе культур Африки и Китая. В Великой Минской империи человек являлся частью мира вещей (wu). А в это время в Европе Рене Декарт «разорвал» человека на две части, заявив в 1640-х годах, что разум существует отдельно от тела и материального мира. Считается, что через 150 лет Иммануил Кант завершил «победу человечества над… вещами»