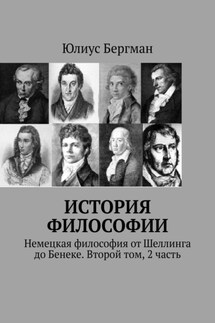Эволюция сознания. Современная наука и древние учения - страница 33
Наиболее полно эта теория представлена в философии Плотина (204–270), который писал, что «мировая душа дает жизнь каждому живому существу и содержит в себе все души и всех духов; она есть бытие единое и вместе с тем бесконечное; она есть сразу и вместе все живое. В ней каждое живое существо, будучи от нее отличным, тем не менее, не имеет отдельного от нее существования, ибо иначе как могла бы она быть бесконечной? Она содержит в себе все вместе – все жизни, все души, всех духов, но так, что они не отделяются друг от друга границами и очертаниями и вследствие этого представляют единое целое. Она обладает не единичной (в себе замыкающейся) жизнью, а бесконечной и одновременно единой – единой в том смысле, что она объемлет собой все жизни, которые, однако, не смешиваются в ней в одно неразличимое единство, хотя по истечении из нее остаются там, откуда истекли. Впрочем, правильнее сказать, что они даже не истекали из нее, а всегда в ней пребывают, ибо она не подвержена процессу бывания, рождения, разделения. Она кажется разделенной лишь в том, что ее воспринимает, тогда как все в ней от вечности остается одним и тем же».[140]
Плотин разъясняет, что «Единое выше бытия, источником которого является. Оно преступает пределы всего и принципиально неописываемо и невыразимо. Вместе с тем все существует лишь вследствие своей причастности единству, хотя само Единое запредельно любому существованию. Единое абсолютно самодостаточно и не нуждается ни в чем, в том числе и в самом себе. И, тем не менее, в силу переизбытка своей всецелостности оно как бы переливается через себя, эманируя следующий принцип – Ум (нус), который ниже Единого, поскольку произведенное всегда ниже произведшего. Ум, в свою очередь, эманирует Душу (психэ), которая как бы проецирует вложенные в нее Умом идеи вовне, в небытие, которое и есть материя, что и порождает чувственный космос. Ум, созерцая одну часть свою, с которой одинаков до тождества, ведь и самого себя будет созерцать, так как нет никакого различия между созерцающим и созерцаемым».[141]
Единому «не принадлежит ни мышление, так как оно вносило бы в него многоразличие, ни движение, так как (благо) предшествует движению, как и мышлению. Да и что оно стало бы мыслить, не самого ли себя? Но это значило бы, что до мышления оно не знает себя, и нуждается в мышлении для познания самого себя то, что всецело довлеет самому себе. Впрочем, если оно не мыслит и не познает себя, это вовсе не значит, что ему принадлежит неведение, которое предполагает отношение познающего к познаваемому, между тем как оно, будучи абсолютно единым, не имеет в себе ничего, что можно было бы знать или не знать, а будучи присущим себе, при единстве своем, не нуждается в мышлении самого себя».[142]
Плотин говорит о возможности прикосновения человеку к Единому: «Когда мы направляем наш взор вовне, а не туда, где коренится наша природа, то, конечно, мы не можем усмотреть нашего единства (со сверхчувственным целым), и нас можно тогда уподобить множеству лиц, которые на первый взгляд кажутся многими, несмотря на то, что в существе своем они держатся на одной и той же голове. Но если бы каждое из этих лиц, собственной ли силой или движимое Афиной, могло обратиться на само себя, оно увидело бы в себе Бога и, вообще, все, конечно, сразу оно не увидит себя как единое все, но глядя все больше и больше и не находя нигде точки опоры для очертания собственных границ и определения, до каких пор простирается его собственное бытие, оно в конце концов оставит попытки отделить себя от всеобщего бытия и, таким образом, не двигаясь вперед, не меняя места, окажется там же, где это всеобщее бытие, – само окажется этим бытием».