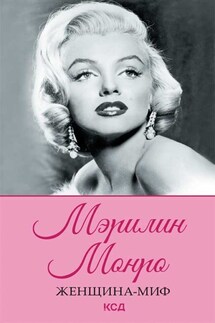Эйзен - страница 44
Вопрос женского «воздействия» на сына сильно беспокоил Юлию Ивановну. Сам он, увлёкшись кинематографом и с головой уйдя в работу над первым фильмом, почти перестал ей отвечать (можно ли считать за ответ одно куцее послание в два-три месяца?!).
И в августе двадцать пятого, узнав, что Серёжа уехал на Чёрное море для съёмок уже второго фильма, Юлия Ивановна взяла билет и села в поезд Ленинград – Одесса.
Для встречи матери на вокзале Эйзен снарядил Гришу – самому было недосуг, отсматривали с Тисом городскую натуру. И, вернувшись вечером в гостиницу, обнаружил Мама́ уже в своей комнате.
Она сидела на кровати и, разложив на коленях гигантскую блузу Александрова, штопала подол. Гриша, голый по пояс и с блаженной улыбкой, примостился у её ног, словно верный пёс рядом с хозяйкой.
Обильно отцеловав пришедшего сына, Мама́ помогла Грише натянуть починенную рубаху и отцеловала его столь же обильно. Называла при этом сынком и светиком. Гриша, краснея от удовольствия, приложился губами к её руке – неумело, видимо проделывая эдакую галантность впервые в жизни, – и, счастливый, вылетел вон. Преданнейший друг Юлии Ивановны, с этого дня и навеки.
Как и Тиссэ. Его Мама́ взяла в оборот уже на следующий день. Тот поранился: оцарапал щёки о гальку во время утреннего купания, когда волна сбила с ног и протащила по дну. Юлия Ивановна откуда-то (в незнакомом порту, посреди одних только доков и кораблей!) достала уксус и взялась обрабатывать ранки каждые полчаса – без единого слова и нимало не мешая рабочему процессу, с одной только ангельской улыбкой на губах. К вечеру и Тис целовал ей руку – этот вполне искусно.
Макса Штрауха, которого знала с детства, она купила воспоминаниями о рижском Штранде. Других ассистентов – элементарной лаской: для каждого было припасено нежное словцо и каждого была готова гладить по щеке или трепать по макушке (а уж трепать мужские макушки она умела). «Сыночки», «деточки», «зайчата» звала она огромных мускулистых дядек. Бывшего кавалериста Первой конной Исаака Бабеля – Исенькой и Исочкой, попеременно. Бабель – таял…
Эйзен смотрел на охоту со стороны и не мог не признать: Мама́ умеет ловить на живца. Пожалуй, теперь он понимал отца, по молодости безумно ревновавшего жену. Но неужели же все эти серьёзные мужья – и умница Тис, и проницательный Бабель, и пяток других материнских жертв – неужели они не замечают, что она притворяется? Что медовая улыбка и медовые глаза – маска, причём довольно грубой выделки?
Не видел мать вот уже много месяцев – пока ставил свои спектакли и фильмы, – и за это время взгляд его приобрёл какую-то иную, взрослую оптику: смотрел на Юлию Ивановну, будто на стороннего человека, – и не замечал ничего, кроме примитивного наигрыша. Фальшиво было всё: как нарочито аккуратно – слабой тенью, лёгким бризом – она семенила на цыпочках по краю съёмочной площадки, чтобы не попасть в объектив камеры и не испортить кадр. Как взахлёб рассказывала о «детстве Серёженьки» (и только о нём), когда случался перекур. Как лучезарно улыбалась и с неизжитым девичьим жеманством смотрела исподлобья, представляясь новым людям: «Юлия Ивановна… Эйзенштейн» – с акцентом на фамилии – и с готовностью кивала в ответ на незаданный вопрос: да-да, я его мать.
Фальшь, фальшь! Все эти порывистые жесты, идущие словно от сердца. Все эти яркие гримасы, будто выражающие чувства. Широкие улыбки, открывающие челюсти целиком, до последнего зуба. Все эти «рассказы святой Матери», что слышал уже добрую сотню раз и знал в них каждое (лживое) слово и каждую (манерную) интонацию. Кроме них, ничего у Мама́ и не осталось, оказывается: любые другие воспоминания о жизни до революции пахли чересчур буржуазно, а суждений о сегодняшнем дне она не имела, так как не понимала в нём ничегошеньки. Мать была пуста, как испи́тая бутылка из-под молока.