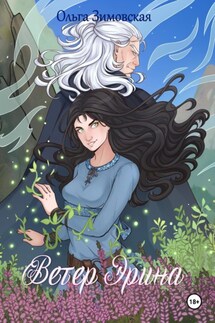Феномен кино. История и теория. Статьи разных лет - страница 12
Доходит до невероятного. Когда на снятый ручной камерой подрагивающий кадр наползает бегущая строка-надпись, что мы, например, можем видеть в телетрансляциях, создаётся впечатление, что дрожит в рамке кадра надпись, а не изображение, хотя именно её пространственные координаты остаются неизменными.
Кадр, или во всяком случае, рамка кадра (ибо определить само понятие кадра у нас пока нет оснований), безусловно, является механической системой. Сейчас для нас ясны следующие его параметры: чёткая геометричность, заданная формой прямоугольника, и плоская поверхность, служащая психологическим барьером, отделяющим зрителя от зрелища. Но как мы уже видели, вполне возможно введение отношений «зритель – экран», а не «зритель – экранная реальность». То есть выделение «кадра» в самостоятельную систему, имеющую свои законы, отличные от законов восприятия и технологичности камеры, представляется не только правомерным, но и необходимым.
Концентрация внимания на плоскости экрана возможна лишь при полном исключении естественной системы из механической. Это происходит, если взаимодействуют два механизма, например, при закреплении камеры на жёстком носителе.
Идеально подходят в качестве иллюстрации сказанного два классических кадра. Первый – из фильма Фернана Леже «Механический балет», где камера установлена на качелях и мерно раскачивается вместе с ними перед зеркальной поверхностью, в отражении которой можно рассмотреть и саму качающуюся камеру, и человека, стоящего рядом с ней. Второй – из фильма Карла Теодора Дрейера «Вампир», где камера заняла место покойника в гробу.
Вторичность опознаваемого предметного мира в фильме Леже, незначительного по сравнению с приёмом, деформирующим его, и случайность отбора кадрового материала у Дрейера смещают акценты зрительского восприятия с реальности на её плоскостное изображение, лишённое всяких признаков иллюзии трёхмерного мира.
В итоге рождается своего рода пластический эквивалент абстрактного искусства без применения каких-либо кинематографических трюков для деформирования изображаемого реального мира. Более того, оказывается, что реальность охотнее поддаётся искажению, чем адекватному воспроизведению, поскольку для воссоздания реалистической картины приходится учитывать множество её «механических повреждений», ловушек, поджидающих человека, решившего нажать кнопку съёмочного аппарата и не изучившего свойства камеры-обскуры искажать и реальный мир, и зрение человека.
Механизм, создающий иллюзию реального мира, будучи средством для возможного сообщения ей эстетических качеств, одновременно служит помехой естественному контакту зрителя с реальностью; помехой, которую постоянно приходится преодолевать.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КИНОТРЮКА
Несмотря на то что феномен кинозрелища не был осмыслен к моменту появления первой концепции кино, и это обстоятельство сразу же исключило «феноменологию» кино из сферы эстетических интересов, идея несоответствия питала все значительные для истории кино явления и практического, и теоретического свойства. Эта идея постоянно связывалась с проблемой выразительности кино, всегда имеющей первостепенное значение. И в зависимости от конкретных исторических условий, возможностей и способностей человека, взволнованного ею, оказывала то позитивное, то негативное влияние на эстетику кино.
Если бы кому-нибудь пришло в голову составить лексикон эстетических кинотерминов, он пестрел бы словами «трюк» (операторский, акробатический), «приём» (режиссёрский, драматургический), «впечатление» (ирреальности, иллюзорности, достоверности, абсурда), «эффект» (сцены, персонажа, трюка, Кулешова, монтажный), «иллюзия» (реальности, а также см. «впечатление»), «аттракцион» (балаганный, интеллектуальный). Обычный автоматизм употребления этих слов, семантические поля которых слишком часто сближаются или совпадают, явно говорит об их заштампованности; вместе с тем словесная путаница свидетельствует о множестве точек зрения на один и тот же предмет.