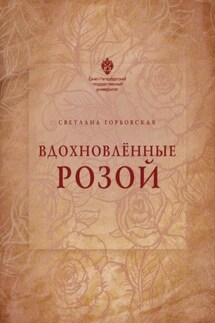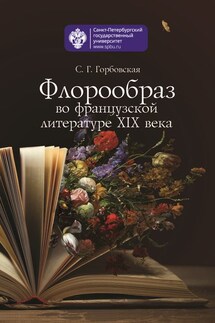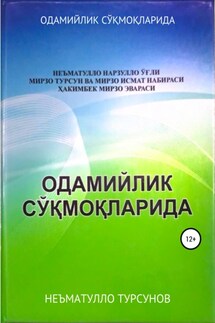Флорообраз во французской литературе XIX века - страница 2
Так как Барт обращается в «Риторике образа» лишь к визуальному, конкретному знаку, а именно к такому явлению, как реклама, он под «символическим знаком» рассматривает лишь коннотацию (сопутствующее значение слова), в ядре которой заложен денотат-гипоним (Италия). Но внутри образа может быть заложен гипероним или обобщенное понятие. Допустимо обозначить подобный (свободный от узости конкретного значения) образ, преобладающий среди вербальных образов, как ассоциативный, так как он предполагает более широкую вариативность толкования.
Гипероним является обобщающим понятием растения, логически абстрактным, неопределенным, собирательным (цветок, дерево, куст), он лежит в основе ассоциативного флорообраза. Термин «ассоциативный» в данном случае заимствуется из семасиологии и психолингвистики и связан с сетью «словесных ассоциаций»[9], с «лингвистическим ассоциативным экспериментом» 3. Фрейда[10] и его последователей, например, Ж. Лакана[11], Л. Блумфилда[12], Ю.Д. Апресяна («Экспериментальное изучение русского глагола»)[13], В. А. Московича («Статистика и семантика»)[14]. Анализ субъективно-ассоциативных флорообразов близок, например, «ассоциативному эксперименту» Л. Блумфилда, основанному на принципе бихевиоризма – неязыковой реакции на так называемые слова-стимулы, вызывающие целую цепочку различных ассоциативных образов в зависимости от интеллектуального и социального статуса, от возраста участников эксперимента. В подавляющем большинстве случаев подобными словами-стимулами являются гиперонимы (или макрообразы)[15], так как конкретное слово (гипоним или микрообраз) в первую очередь связано с точным значением, с конкретной культурной, исторической, этимологической коннотацией.
Слово «цветок», например, способно вызвать коннотативную рефлексию (допустим, как орган размножения у растений), но, все же, первичной здесь является ассоциация. Так как у каждого читателя в связи с обобщенным словом «цветок» возникнет своя, уникальная «свободная ассоциация» (роза, василек, фиалка и т. д.; красный, белый, желтый и т. д.; живой, сухой, искусственный и т. д.). В субъективно-ассоциативных флорообразах преобладает эмоционально-психологическое дополнительное значение. Анализ подобного типа образа связан с исследованиями О. К. Эрдмана[16] и Г. Шпербера[17], которые писали об «эмотивно окрашенных элементах содержания» слов. Основное же значение субъективно-коннотативных флорообразов заключается в их культурном, философском, реминисцентном содержании. Хотя эмоциональная, психологическая окраска содержания коннотации в них несомненно присутствует – особенно в творчестве Ламартина (барвинки – голубые глаза, умирающая роза) или Нерваля (незабудка, шток-роза как синтез богинь или женских прототипов) – и занимает одну из ключевых позиций, отодвигая порой рациональные компоненты содержания коннотации (исторические, философские, литературные) на второй план. В подобных случаях слияния культурного дополнительного значения с эмоционально психологическим речь уже идет о третьем типе флорообраза, смешанном, субъективно-суггестивном. Подобный тип флорообраза максимально отрывается от своей классической исторической семантики и становится примером абсолютной авторской сублимации образа («свирепый нидуларий», «цветок-сифилис» Гюисманса, «цветы-стулья» Рембо, «белая кувшинка» Малларме).