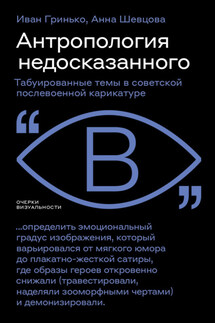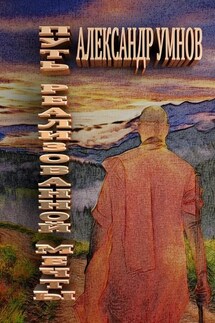Галерейщица. Или как я ходила в искусство - страница 2
2. Галереи финансово убыточны.
Одно из главных условий существования рынка искусства – наличие у людей свободных денег и желание тратить их на необязательные, сверхповседневные, сверхнеобходимые вещи. На сегодняшний момент уровень жизни позволяет делать это лишь ничтожному проценту наших сограждан.
Содержать галерею в России – трюк на грани возможного. В профессиональном сообществе шутят: чтобы открыть маленький галерейный бизнес, надо иметь за плечами большой бизнес. А лучше – два больших бизнеса. И то не факт, что у вас получится.
Снять красивое помещение, развесить картины и ждать у моря погоды – не работает. Нужно очень много энергии, очень много коммуникативных усилий и очень много свободных средств, чтобы галерея как институция начала быть заметной, а как бизнес – окупилась. Далеко не всем, да что там – мало кому удается дожить до этого этапа.
Тем не менее находятся энтузиасты, которых это не останавливает. Они создают свои галереи вопреки любой прагматике. Очень хочется, чтобы их становилось больше. Хотя ясно, что они никогда не будут большинством.
Но что плохого в том, чтобы быть в меньшинстве? Мне, например, нравится. А вам?
Глава 2
Откуда есть пошли современные российские галереи?
История частных галерей в России началась во второй половине XIX века и прервалась в 1917 году. Богатейшие собрания Третьяковых, Щукиных, Морозовых и других меценатов были национализированы. Лозунг «Искусство принадлежит народу» на семьдесят советских лет исключил возможность легального функционирования арт-рынка. Государство стало единственным заказчиком и распределителем художественных ценностей.
Конечно, в СССР существовало частное собирательство, но оно еле теплилось, было полуподпольным и маргинальным. Для обычного советского человека галерея как явление была чем-то далеким, чуждым, сугубо буржуазным. В лучшем случае ее можно было увидеть в кино. Естественно, иностранном. За границу выезжали единицы, почерпнуть информацию было неоткуда.
Между тем официальная художественная система была всеобъемлющей и фундаментальной. Внизу пирамиды стояли художественные школы, училища, вузы и академии. В середине – союзы художников: городские, областные, республиканские. Венчал эту конструкцию главный союз – Союз художников СССР.
В каждом союзе существовали секции: станковистов, графиков, монументалистов и т. д. Каждая секция была обязана регулярно проводить отчетные выставки, на которых ее члены демонстрировали свои работы. С одной стороны, таким образом поддерживалось и поощрялось развитие художников, обеспечивался обмен творческими идеями. С другой – махровым цветом цвела идеологическая цензура.
Иерархия союзов копировала иерархию государственной власти. Это были отнюдь не формальные объединения, а влиятельные институции, владевшие и распоряжавшиеся огромным имуществом: мастерскими, выставочными залами, домами творчества, санаториями. Они распределяли ресурсы и заказы, отправляли художников в командировки по стране и за рубеж, издавали каталоги и книги. Худсоветы и закупочные комиссии по степени влияния на судьбы творцов походили на ареопаг олимпийских богов. Не прошел комиссию – не продал работу – не на что жить. Буквально.
Монополия государства на выдачу заказов и распределение гонораров приводила к необходимости бороться за кусок тоталитарного пирога. Часто путем болезненных творческих компромиссов. Тех, кто не хотел на них идти, ждала суровая доля. Если в политической системе антитезой государственной идеологии было диссидентское движение, то в культуре существовало противостояние официального искусства и андеграунда. Соотносились они примерно как бык и овод. Бык большой и неподвижный, овод – маленький и кусачий. Летает вокруг, жужжит и не дает быку расслабиться. Но и заставить его сдвинуться с места не может.