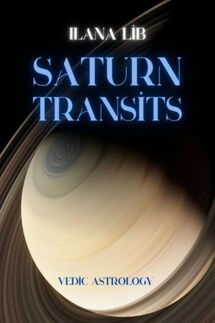Гендер в законе. Монография - страница 20
Приведенные сентенции отнюдь не призваны усилить ту чашу весов, на которой сосредоточиваются атеистические представления о мире>[141] – они лишь придают дополнительный штрих к портрету гендерной проблематики и акцентируют информацию к размышлению.
Очевидно, что политический менеджмент и политическая активность в целом в основном маскулинны. хотя «юридически мужчины и женщины равны, – замечает Валери Брайсон, – и женщины теперь могут конкурировать с мужчинами в различных областях деятельности, они делают это на условиях, уже созданных мужчинами»>[142].
С.И. Голод подчеркивает: переход женщины от подчиненного положения к равноправному «изначально предполагал обязательную мимикрию: мало «победить» мужчин, надо сделать это на их «территории», пропитанной «мачистским духом», признать единственно верным используемые ими методы»>[143]. «Общеизвестно, – пишет М. Арбатова, – что основные решения на планете принимает небольшое количество белых мужчин>[144] среднего возраста, вышедших из среднего класса. Остальные вынуждены жить в мире, увиденном их глазами и существующем по придуманным ими схемам»>[145]. «На редкость популярна, – констатирует И.М. Хакамада, – вечная убогая вариация на тему «женщина и политика – две вещи несовместимые». Класть асфальт? Пожалуйста. Бороздить космические просторы? Пожалуйста. Снайпер, укротительница, военный репортер? Пожалуйста. А в политику – извини. Потому что власть»>[146].
В то же время, замечает В. Брайсон, с одной стороны, нет никаких гарантий, что увеличение числа женщин в органах власти будет выражать потребности всех представительниц этого пола, включая наиболее обделенных из них>[147]. Так, например, Г. Минк утверждает, что в 1990-х белые женщины из среднего класса в Конгрессе США поддерживали такие реформы социального обеспечения, которые отрицали право матерей-одиночек проводить свое время в домашних заботах о детях, так как они (эти белые женщины) «объединили собственное право на работу за пределами дома с тем, что малоимущие матери-одиночки такие же, как и они, тоже обязаны работать»>[148]. «Тем не менее, – замечает В. Брайсон, – опыт последних лет показывает, что чем больше женщин избираются на политические должности, тем более широкие и типичные интересы они представляют и защищают в процессе принятия политических решений»>[149].
Эксперты ООН утверждают, что пока число депутатов-женщин не достигнет хотя бы 20 %, законодатели не будут заниматься проблемами детей, 30 % депутатов не станут волновать социальные потребности «второго пола»>[150]. Небесспорные тезисы, в том числе применительно к России: в Госдуме РФ последнего созыва этот процент – 13,5 (предыдущего созыва – 14), а «детским правом», социальными льготами семьи, поощрением демографической политики, включая идею материнского капитала, депутаты вполне предметно занимаются, хотя и недостаточно системно>[151].
Тем не менее в фундаментальном смысле этот тезис укладывается в общее «ложе» аргументации за гармонизацию (да, что скромничать – за существенное увеличение) представительства женщин в политическом процессе. Так, исследования, проведенные в странах Скандинавии, где уже многие годы активно осуществляется гендерное выравнивание властных структур и рассматриваемая пропорция достигает 40 %/60 % и выше, социально ориентированная политика представлена в значительно больших объемах и эффективном качестве