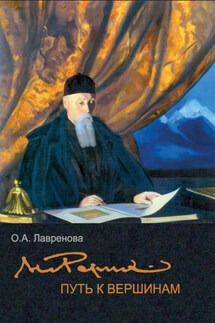Глаза Рембрандта - страница 78
Питер Пауль Рубенс. Поклонение Троице герцога Мантуанского и его семейства. Ок. 1604–1606. Холст, масло. 190 × 250 см. Палаццо Дукале, Мантуя
Разумеется, создать атмосферу благочестия вокруг такого семейства, как Гонзага, было непросто. В работе над картиной Рубенс опирался на венецианскую традицию, согласно которой дожа и его близких часто изображали в роли донаторов в одном визуальном пространстве со святыми или даже с Девой Марией, а композицию скопировал с великого портрета семейства Вендрамин кисти Тициана. Однако венецианцы обрели печальную известность своим пренебрежением христианской догмой, а Тридентский собор сформулировал строжайшие принципы, касающиеся изображения небесных видений, а также общения смертных и божественных персонажей в пространстве одной картины. В частности, Тридентский собор объявил, что видения Троицы могут быть дарованы лишь святым и апостолам, к каковым, мягко говоря, нельзя было причислить представителей семейств Гонзага и Медичи, даже искренне набожную Элеонору Габсбургскую, мать Винченцо. Однако картина Рубенса предназначалась для церкви Сантиссима Тринита, Святой Троицы, а по очевидным причинам Винченцо страстно желал предстать в глазах общества покровителем мантуанских иезуитов. Поэтому искать хитроумное решение он предоставил Рубенсу, к 1604 году уже признанному мастеру исторического жанра, наделенному богатым воображением. И Рубенс нашел выход: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой представлены словно бы на шпалере или гобелене, и потому семейство Гонзага преклоняет колени не перед самой Святой Троицей, а перед ее изображением, которое чудесным образом точно оживает на поверхности ткани. В этой картине Рубенс обратился и к другой местной традиции, вспомнив о фламандских шпалерах, не знающих себе равных ни в Северной, ни в Южной Европе по великолепию и яркости. Однако образы Святой Троицы отнюдь не кажутся «ткаными» или сколько-нибудь условными: они созданы из плоти и столь же телесны, сколь и земные донаторы, вот разве что лики их сияют, как и пристало божественным сущностям. Этим блестящим вдохновенным приемом, «ingenium», Рубенс тактично разделил смертный и нетленный миры, одновременно показав, что разницы между презренным ремесленным искусством ткачества и возвышенным искусством живописи не существует. Именно она, по мнению Микеланджело и Вазари, отличала и всегда будет отличать фламандского «кустаря» от итальянского художника, усердный, но туповатый труд от благородного вдохновения, и не в последний раз Рубенс торжествующе развеял этот предрассудок.
К лету 1602 года, когда братья наконец встретились в Вероне, Питер Пауль уже три месяца как вернулся на службу к герцогу. Вероятно, он воспользовался возможностью и решил выговориться Филиппу, сетуя на необходимость выполнять бесконечные поручения Гонзага. Не случайно Филипп отправил ему сочувственное письмо, в котором высказывал опасения по поводу его «благодушия, не позволяющего отказать подобному принцу, который постоянно требует от тебя все большего и большего. Впрочем, крепись и будь готов сражаться за свободу, о коей и не слыхивали при мантуанском дворе. Ты имеешь на это полное право».
Легко сказать. Напутственные слова Филиппа были заимствованы прямо из стандартного арсенала изречений о возвышенной невозмутимости пред лицом злобных и жестоких правителей – изречений, столь ценимых неостоиками. Однако любимым философом всех учеников и последователей старика Липсия был Сенека, автор трагедий и сам трагический актер на сцене жизни, готовый выполнить любое желание своего коварного повелителя Нерона. Он даже предпочел совершить самоубийство, лишь бы не причинить неудобство императору и избавить его от угрызений совести. Хотя Питер Пауль и был благодарен брату за преданность и сочувствие, он еще не достиг того успеха и не обрел той независимости, чтобы столь дерзко самоутверждаться. А заказ, над которым он работал в Мантуе в 1602 году, в любом случае был вполне достоин его дарования: ему предстояло написать цикл эффектных и величественных исторических картин на темы «Энеиды», стихотворного эпоса Вергилия, великого поэта и уроженца Мантуи. В этом цикле Рубенсу еще далеко не удается достичь того сочетания героического драматизма и чувственной плавности, которое впоследствии станет «фирменным знаком» его лучших исторических полотен. Многочисленные заимствования у Рафаэля, Тициана, Веронезе, Мантеньи и даже Джулио Романо свидетельствуют, что Рубенс переносит на холст черты той или иной индивидуальной манеры, но органического собственного стиля составить из них не может, всюду виднеются «швы» и «торчащие нитки». Однако в отдельных фрагментах этих крупных композиций под спудом многочисленных визуальных аллюзий различима большая творческая свобода, большая уверенность, словно сейчас, в свои двадцать пять лет, Питер Пауль уже не преклоняет почтительно голову перед итальянскими мастерами, а без страха смотрит им в глаза как равным. Так, взор Юноны в «Совете олимпийских богов» горит гневом и ревностью, она, негодуя, вскидывает руку, показанную в идеальном ракурсе, ее тело облачено в свободный травянисто-зеленый хитон, и все эти детали, взятые вместе, создают в многофигурной композиции ощущение напряженности, словно Юнона посылает отравленную стрелу прямо в сердце своей ненавистной соперницы, белокурой полуобнаженной Венеры, которая любуется собственной красотой одновременно тщеславно и вяло. Это жест художника, не боящегося идти на серьезный риск и помериться силами со знаменитостями. А когда весной 1603 года мы наконец слышим собственный голос Рубенса в целой череде писем, отправленных им статс-секретарю герцога Аннибале Кьеппио, оказывается, что говорит он на удивление откровенно и уверенно, и это вполне уместно, принимая во внимание предстоящее ему путешествие.