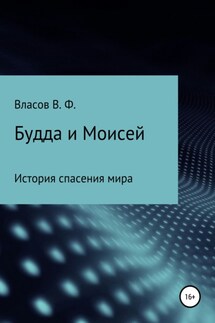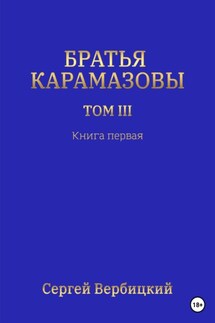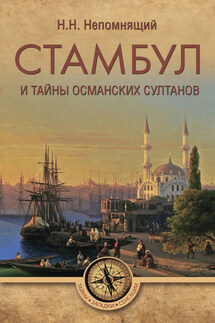Гнездо Красной Птицы - страница 2
– Но тогда нам в первую очередь нужно разобраться, – сказал Тапир-хан, – и выяснить, чем ваше научное мышление отличается от нашего религиозного опыта.
– Да,– согласился я с ним, – я полагаю, что то, что играет главную роль в философии как науки, может быть только человеческим мышлением и практикой самого человека.
Услышав это, Тапир-хан рассмеялся и сказал:
– А я думал, что для вас важно знать сам объективный мир, безотносительно к способам его познания.
– Но как мы можем узнать объективный мир без нашего мышления и практики? – удивился я, услышав его замечание.– Ведь учение об объективной действительности, то есть о бытии, как оно существует само по себе, издавна называли философской онтологией.
– А я знаю, что учение о мышлении и познании, в широком смысли этого слова, называют гносеологией, – ответил Тапир-хан, – но онтология и гносеологий – это же две разные науки. И их нельзя смешивать. Как же вы намереваетесь познать мир, стоя одновременно на разных основаниях?
– В этом нет противоречия, – заявил я, – так как теория познания есть неотъемлемый раздел философии, только она, как одна из всех наук, изучает познание во всём его объеме. Опираясь на логику и психологию, гносеология пытается представить процесс человеческого познания и его целостности, решить проблему истинности и достоверности научного знания. Ведь без определённого сосредоточения, вряд ли нам откроется то, что скрыто за занавесом сложных понятий человеческого мышления, когда оно начинает разбираться в тонких деталях творения природы, таких как «существование» и «жизнь».
– Но правильно ли говорить об онтологии как науке? – опять возразил мне Тапир-хан. – Ведь всё строится на каких-то подпорках и укреплениях, без которых знание превращается в ничто. И эти подпорки и укрепления, как бы должны быть существенными доводами, а не какой-то абстракцией. Ведь все эти абстракции – это лишь ветошь ума и самопроизвольные химеры. Можно ли, даже в понятной абстракции, отвлечься от способов получения знания познающим субъектом и рассматривать бытие как таковое? Ведь бытие есть бытие, а познание – это познание. Это – разные вещи, которые заставляют нас подходить к изучению проблемы с разных и даже противоположных сторон. Ведь гносеология и онтология смотрят на мир и на теорию познания по-разному: одна наука как бы – изнутри, а другая – снаружи.
– Но так можно прийти к мысли, что бытие непознаваемо, – заметил я.
– Так оно и есть,– уверенно сказал Тапир-хан.
– Более того, – поддержал его другой прихожанин Баран-ян по кличке Демон,– когда человек начинает задумываться о своём бытие, то он легко впадает в философскую прелесть, иными словами, в очарование.
– А я считаю, что человек способен познать всё, – настойчиво заявил я, – именно поэтому он обладает совершенным умом.
Прихожане снисходительно улыбнулись и предложили мне:
– Давайте поговорим об этом.
И я начал своё объяснение:
– Любой акт познания подразумевает две стороны, вернее, два элемента – субъект и объект познания, которые, как бы нам не хотелось, имеют свои два взгляда на мир: взгляд изнутри, и отстранённый взгляд снаружи. Когда смотрят изнутри на мир, то себя не принимают в счёт. А когда смотрят, как бы с наружи, то не видят внутреннего взгляда индивидуума. Это – как две стороны наличия или осуществления в этом мире. Что-то в этом мире есть, а чего-то – нет. Это также относится как к существованию, так и к жизни. Так есть существование, но в нём нет жизни. Мёртвая вещь не может быть одухотворённой. Также как и жизнь без наличия самой вещи не может существовать сама по себе. Любое существование и любая жизнь несут в себе возможности становления, роста, развития, деградации, разрушения и исчезновения. Во всём происходит постоянная трансформация. Если чего-то не хватает в чём-то, то оно ослабевает и разрушается. Всё в мире одновременно является и объектом и субъектом, это случается от общего разделения внутри себя. Если что-то обогащается за счёт чего-то, то оно развивается. Но в переходах и перемещениях от объекта к субъекту и обратно уже наличествует развитие, а там где есть развитие, есть и жизнь. Ведь жизнь – это движение, но не механическое движение, а одухотворённое. Без одухотворения не может быть жизни. А вот объект познание – это не просто индивидуальный человек, а идеализированный учёный, строящий свои выводы на основе эксперимента и теории, прибегающий к стандартным средствам и методам исследования. Любая наука зарождается в познании. А что такое знание? Это, прежде всего, переменная величина. Но знания могут быть объективными или субъективными, так как всё зависит от того, относятся ли они к частным областям или всеобщим сферам знания. Объект познания – это не объективная реальность, какова она есть, а некий слепок знаний, созданный средствами, методами и целями исследования. Ведь так? Мы видим не сам мир, а нечто, относящееся к миру, как отражение в зеркале. Но является ли такой мир настоящим? Мы познаём мир не таким, каким он существует как бы «сам по себе», а в том виде, как он нам представляется нашему взору в нашем познавательном процессе. Поэтому можно сказать, что познание объекта без субъекта не может существовать, так же как субъект без объекта не может обойтись.