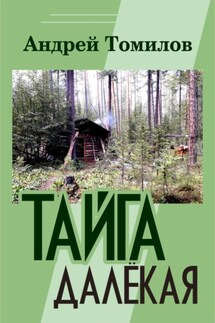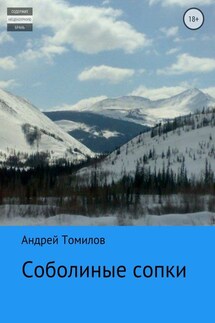Год волка - страница 5
Не даром кто-то сказал: даже дьявол, по сравнению с человеком, выглядит простецким пареньком.
Обычно охотники встают рано. Хоть и уматываются за день, и ложатся поздно, – пока пушнину обработаешь, приведёшь в порядок. Но вставали рано. Завтрак торопливый, сборы в толкотне между собой и, ещё чуть брезжит, ещё солнышко не показалось, а они уж на путиках. Один в одну сторону, другой в противоположную.
Сегодня же что-то нарушилось. Что-то случилось, пошло не так. Уже и кобель вылезал из кутуха, вытряхивал мороз из шубы, позевал громко, показывая хозяевам, что он проснулся, что пора кормить. И тайга уже просветлела, ожила голосами птичек малых, да дробными, барабанными россыпями дятлов. А потом и вовсе заулыбалась, когда лучи солнышка проткнули её, будто стрелами.
Ах, тайга. Ни каких тебе забот, ни каких терзаний душевных.
Генка так и не уснул. Лежал, будто скованный какими обручами невидимыми. Ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Мысли только в голове ворочались. Медленно, как жернова в момент разгона, на той самой мельнице. Медленно и тяжело ворочались мысли в прокуренной до тошноты голове. Ох и мысли…
Степан проснулся от того, что кто-то навалился крепко, горло перехватил воротом и шипит в лицо. Шипит, а о чём не понятно.
– А-а-а! Ты чо!? Ты чо, сдурел, что ли!?
Откинул, отпихнул более лёгкого, молодого напарника. Сел на нарах, уставился в светлое, почти дневное оконце.
– Ты чо? Привиделось что ли? Чего цепляешься?
– Да, вот. Спросить тебя хотел.
– Так спрашивай. Чего за ворот-то прихватывать.
– Спрошу. Спрошу.
Генка тоже уставился в замёрзшее, подслеповатое оконце. Посидели молча. Не торопились ни куда. Не ждали их сегодня путики. Подложил в печку, чайник поставил.
– Ну? Чо за вопрос-то?
– Да вот, хотел узнать, а ещё лучше, так взглянуть.
– Куда взглянуть-то?
– Знамо куда. На самородочек твой.
Выпучив глаза, Степан так и застыл среди зимовья с разинутым ртом и чайником в руке. Чайник парил, – только что вскипел.
– Ты… это… Ты чо, Гена? Ты чо? Мы же… это… Сдали же мы. Ты чо?
– Сдали?
– Да! Всё как есть. Всё! Серёга же… Я же тебе говорил. Серёга…
– Чего-то я про самородок не помню. Песок же сдавали-то? Песок.
Генка потряс пустой пригоршней, сложенной из двух ладоней, приблизил её к лицу напарника. Степан отклонился, не стал заглядывать в пригоршню. Глядя куда-то под ноги, заговорил.
– Нет! Гена, нет! Всё сдали! Как есть всё! Здоровьем клянусь…
– Ладно. Посмотрим… что там у тебя… за здоровье.
Генка забрал чайник у стоящего столбом Степана, разлил по кружкам кипяток. Макал сдобным сухарём в сладкий чай, лениво жевал. Степан, вдруг, заторопился, стал каким-то суетным, быстро проглотил пару сухарей, ещё что-то, сам не понял, что, стал одеваться. Напарник молчал, исподлобья наблюдал.
– Пробегусь. Проспали сегодня. Пробегусь. Может до нижнего, так ты уж не жди меня, отдыхай. Чо уж, отдыхай.
До нижнего зимовья было около дюжины километров, может чуть больше. Оттуда был ещё путик, на следующее зимовьё, – раздельное. Так называли его за то, что стояло оно на водоразделе, в добром, колотовом кедраче. Там всегда соболь держался. Вот Степан и обрабатывал этот круговик. А ещё от раздельного был короткий путик, тоже круговичок, но лишь на день. Работы хватало на три, четыре дня. Но, при желании, можно и на пять растянуть. Потом опять на базу.
Генка же, от центрального ходил в верхнее, обрабатывая все боковые ключи. И, если замерять, то получалось прилично, в один конец больше двадцати километров. А в обратку, другой стороной, там и того больше. Трудный путик. Верхнее зимовьё было совсем маленькое. Строили его когда-то, как ночуйку, чтобы по осени перебиться, а вышло, что всю зиму там ночевать приходилось. Правда, Генка его утеплил, как мог, снегом до самой крыши засыпал. И жил. Приёмник крутил вечерами. Наслаждался одиночеством.