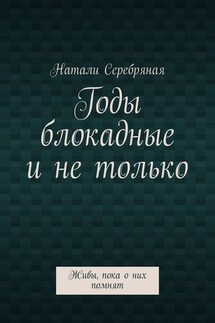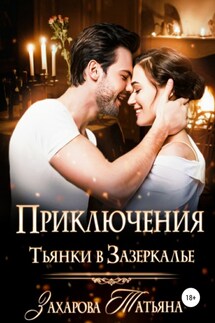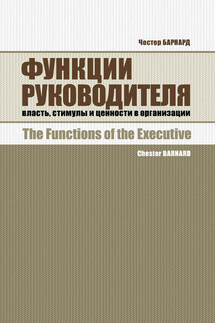Годы блокадные и не только. Живы, пока о них помнят - страница 6
В свои школьные годы братья Дмитриевы выезжали на лето в деревню, конечно, к родне, как тогда и было принято. В лагеря не ездили. Брали с собой фотоаппарат. Фотографировали всё и всех. Вполне может быть, что у кого-то и остались пара фотографий от моего дяди в какой-нибудь деревне Новоржевского района. Им «платили» натурой, т.е. кормили всем, что пожелаете. Ловили рыбу, обычно, бреднем, но немного, и чистить так и не научились сами. Дело это было не мужское да и сами считались городскими. Этот опыт помог отцу в годы войны вывести генерала из внезапного окружения вместе с машиной и охраной. Собирали грибы, но опят не стали бы собирать, чтобы не ошибиться. Их брали «в ночное» и отец узнал, что без седла нужно ещё уметь ездить, а то спустившись с лошадки, можно и не устоять на ногах, пожалуй, и что спина лошади совсем не такая уж и мягкая. Немного знакомы были с сельхозтехникой. Бабушка же ездила без седла и босиком, прикрывая ноги юбкой, свободно, с детства, ведь дядя не баловал, считая, что жизнь не должна казаться сахаром, хотя сафьяновые сапожки и держали «на виду», под стрехой какой-то.
Потеряв родителей ещё в 12-летнем возрасте (революция не виновата), бабушка, будучи единственным ребёнком своих состоятельных родителей, да и рожденным через 15 лет вполне благополучного брака, имела 20000 серебром в банке Петербурга, кажется, на ВО, земли на котором когда-то раздавались бесплатно, была честно выдана замуж двоюродным дядей за «справного парня», сына мельника, уже в 17 лет, дядя ведь продал её родительский дом и вырученные деньги уже «спустил». Если бы не грамотное завещание матери, отравленной, похоже, «по-родственному» и, по мнению врачей, ртутью, то истратил бы больше, конечно, и невеста стала бы беднее просто. Цепь серебряная, однако, подаренная царицей честной кормилице, нашлась у дяди Васи и ревностно охранялась его женой Томарой, что меня удивляло, ведь я-то была законнорождённым ребёнком, в отличии от её родни по линии аж жены старшего брата, тоже вернувшегося из Казахстана и проживавшего в пригороде. Отец бабушки умер также скоропостижно и аналогично, придя из какого-то питейного заведения. Не взял какую-нибудь «хорошую женщину» замуж? Но матерью бабушка стала только в 20 лет. Раннее материнство не приветствовалось и в царское время. Наемным работникам в отсутствие мужа бабушка могла платить и платила только деньгами, которые имела от мужа-литейщика. «Натурой» платить было невозможно. У всех своя имелась. Считалось во все времена, что быть замужней, это быть обеспеченной женщиной и не перегруженной хозяйственными работами, хотя моя прабабушка и была, выражаясь современным языком, предпринимательницей, примерно, среднего звена, но и муж был в сотоварищах, конечно. Выделкой шкур занимался он. Бабушка бизнесом родителей не интересовалась и помнила только бочки со шкурами и развешанные под навесом разные. Мужчины, гордилась бабушка будучи замужем, брали с собой в поле, т.к. могла и косить и стол (поляну) накрыть, чем многие женщины не могли похвастаться.
Как рассказала, два года после переезда прожили в Ленинграде «за занавеской», т.е. не в своем доме и не в отдельной комнате, т.е. не имели даже и спальни, как и многие в те сложные для страны годы. Нельзя было жить всегда «за занавеской» и дед, как глава семьи, построил сам, с не родным, конечно, братом, домик, буквально, из брошенных после разбора железнодорожных путей шпал. Дому даже не присвоили отдельный номер и зарегистрировали как отдельную квартиру с трехзначным номером (условно, 876). Так и жили в домике «на двоих с братом», на наб. Обводного канала, по ул. Варшавской.