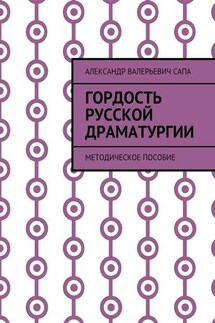Гордость русской драматургии. Методическое пособие - страница 5
Он (Гоголь) получше укрылся за портьеру и сызнова оглядел зал.
Вся свора Булгарина и Кукольника была в портере: Греч, Сенковский, Булгарин, Вигель, князь Шаховский, барон Розен, сей неудачливый стихоплёт и ярый ненавистник «Ревизора»… Они сбились в кучку вокруг господина Возвышенного, пожимали плечами, посмеивались.
Словом, все были тут, в театре – друзья и враги. Не было только того, кого бы всем сердцем хотел увидеть сейчас в театре Николай Васильевич, – Александра Сергеевича Пушкина: поэт находился в Михайловском.
Внезапно подняли люстры, и в зале стемнело. Вскинув глаза на императорскую ложу, Гоголь увидел государя.
Царь сидел в кресле – прямой, равнодушный, безжизненно глядя оловянными глазами на поднимающийся занавес. За государтсвенным креслом, рядом с наследником, стоял Жуковский» [7, с.129—131].
Перед самым началом действия Гоголь прошёл в зрительный зал и расположился в ложе с графом Виельгорским, князем Вяземским и тайным советником Жуковским. Он «чувствовал себя мухой, утопающей в дорогом соусе». Фрак торчал на нём колом, руки в перчатках потели, сильно накрахмаленная манишка резала шею. Он ёрзал и вертел головою, с испугом ловя реплики и вдыхая запах французских духов и помад.
Слева был генерал, справа генерал, сзади министр, впереди член Государственного совета… А вверху где-то, в раззолочённой ложе, возвышался царь. Темя Гоголя горело, стыд и неловкость жгли и душили, а от взрывов глупого и грубого смеха он подпрыгивал, как будто его кололи чем-то острым. Усы, усы, усы… бакенбарды, дамские веера, и зевки, и раздражение, нарастающее от реплики к реплике, и опять смех, смех, смех…» [11,с.192]
Совсем другого ожидал Гоголь…
Но актёры играли прескверно. Временами Гоголю казалось, что смотрит он не свою, а чью-то чужую, незнакомую пьесу, слышит чужие, мёртвые слова.
С каждым актом всё сумрачней и сумрачней становилось у него на сердце. Было стыдно смотреть, как, картавя и жеманичая, шаловливым мотыльком порхал по сцене долговязый Дюр (игравший Хлестакова), как кривлялись, потешая публику, Бобчинский и Добчинский.
«Однако не пьеса и не игра актёров рождала в душе Николая Васильевича чувство растерянности и тоски. За другим следил он, другое видел, в смятении откинувшись на спинку бархатного кресла.
Он следил за публикой. Публика была избранной, в полном смысле «сливки общества»… Это они создавали общественное мнение, губили и возносили сочинителей… И это о них написал он комедию, о них – «дающих и берущих», о них хозяевах… земли…
Сначала по портеру и ложам пробегал лёгкий, приглушённый шёпот, и, прислушиваясь, Николай Васильевич уловил снисходительные возгласы почти одобрения: «Премиленький фарс! А кто сочинитель? Ах, препотешно! И мило, право же, мило!» Потом наступила тишина – глухая, враждебная; с каждым актом становилась она всё гуще и гуще. Одёргивали нервно и зло свои отутюженные фулфары и фраки, угрожающе звякали шпорами, в недоумении, с брезгливой гримасой отирали лысины надушенными платками. «Это невозможность! Это клевета! Якобинство!» – негодовали виц-мундиры и фраки… – Да для автора нет ничего святого, коли дерзнул он так говорить о служащих, о чиновных, об опоре государства и слугах его величества! …Взятки, мордобой, невежество, казнокрадство… И это Россия?.. И притом, что в просвещённой Европе, помилуйте, скажут? Скандалёзность! Позор! Запретить!» [7, с.231—232].