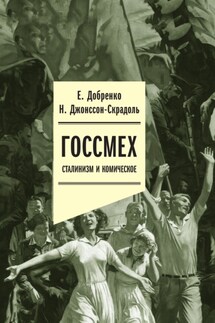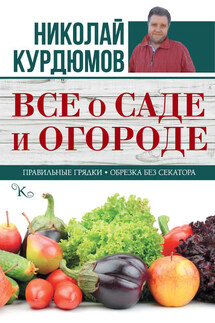Госсмех: сталинизм и комическое - страница 41
Высмеивая подобные рецепты «сатирического осмеяния», Владлен Бахнов писал о советской сатире XXI века:
Мне думается, к тому времени сатирический жанр значительно расширится за счет слияния с такими жанрами, как дифирамб, панегирик и ода. Можно даже представить себе, как сатириков будущего общественность станет призывать смелее и острее вскрывать положительные явления нашего быта[169].
Гармонизирующий смех: Диалектика «положительной сатиры»
Все теории комического едины в том, что оно основано на противоречии – между безобразным и прекрасным (Аристотель), ничтожным и возвышенным (Кант), ложным и истинным (Гегель), нелепым и осмысленным (Жан-Поль, Шопенгауэр), предопределенностью и произволом (Шеллинг), образом и идеей (Фишер), автоматическим и живым (Бергсон), действительно ценным и лишь притязающим на ценность (Чернышевский), необходимостью и свободой, великим и ничтожным… Не чужда была этому и советская эстетика. Как заключал Ю. Борев, «комическое – это противоречие общественно ощутимого, общественно значимого несоответствия (цели – средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущности – ее проявлению, претензии личности – ее сути и т. д.)»[170].
Проблема, однако, в том, что в сталинизме «комическое как средство раскрытия противоречий» наталкивается на фундаментальное препятствие: эпический мир соцреализма весь устремлен к гармонизации, а вовсе не к раскрытию противоречий[171]. Это создает ситуацию невозможности комического одновременно с постоянной необходимостью в его симуляции, обусловленной соцреалистическим популизмом (народностью) и оптимизмом. Здесь мы имеем дело с оксюморонной в своей основе формой гармонизирующего смеха, дававшей простор для бесконечных диалектических упражнений. Об этой диалектике и пойдет речь.
1930-е годы стали временем утверждения «жизнерадостного» госсмеха и «положительной сатиры». То, что было лишь намечено Киршоном в 1934 году, уже через несколько лет стало догмой[172]. Так, согласно Евгении Журбиной, в советской литературе «стирается демаркационная линия между амплуа писателя „возвышенного строя лиры“ и писателя, „дерзнувшего вызвать наружу всю трагичную, потрясающую тину мелочей“»: «Дух сатирического разоблачения проник глубоко в „мирные“ жанры литературы. Собственно советскому сатирику приходится настраивать свою лиру на „возвышенный строй“, если он хочет, чтобы его сатира оставалась сатирой реалистической»[173]. Эта диффузия лирики и сатиры, согласно Журбиной, полностью обновила последнюю:
Только на наших глазах сатира начинает оживать во всей гамме и полноте лирических оттенков. Удивительная, небывалая в мировой истории сатира рождается у нас – сатира, не содержащая в себе нерастворимых осадков желчи, горечи, иронии, то есть той питательной среды, в которой издавна выращивалась культура сатиры и которая казалась неотъемлемым условием этого выращивания[174].
Только перестроив свою «лиру» на этот «возвышенный строй», советский сатирик может оказаться «на уровне своих задач»:
Лирически-восторженное отношение к нашей действительности делается тем мостом, по которому этот писатель переходит на рельсы новой, советской сатиры. […] Жизнеутверждающий лиризм, лиризм самых светлых, радужных тонов, сделался отличительным признаком лучших ее образцов. Этот лиризм вошел в каждый элемент сатирического построения, не снизив и не притупив высоту сатирического негодования, а только поставив его на новый и контрастный фон – фон радости, бодрости, внутреннего спокойствия и уверенности. Разрешить задачу построения советской сатиры оказалось возможным только на высокой волне гнева и ненависти и на высокой волне жизнеутверждающей лирической патетики [сатиры, свободной] от критического пафоса и чувства негодования, пронизанной безоблачно-светлым лиризмом