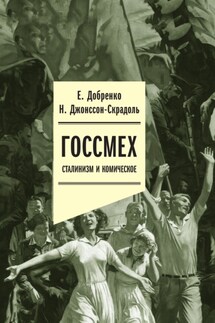Госсмех: сталинизм и комическое - страница 45
Конечно, тема мужественного преодоления собственного недуга – это большая тема. Ее прекрасно решили в своих книгах H. Островский, Б. Полевой и другие, но я думаю, что описанное ими было типическим явлением для дней войны, когда миллионы людей были в какой-то мере корчагиными, мересьевыми, и это, при всей исключительности положения, было не исключительным.
Я же ищу типическое для периода мирного строительства. Каков же герой этого времени? И вот передо мной встает рядовой агроном, наш кормилец – великий маленький человек. О таких рассказать!
Типичный маленький человек превращается под пером М. Смирновой в абсолютно усредненный объект – она хочет изобразить все среднее:
Возьму очень среднюю МТС, расположенную в средней полосе нашей Родины, где почвы выработанные и тощие… Я вижу своего героя среди полей. Он среднего роста, запыленный, в серой кепке на седоватых волосах, в более чем скромном пиджаке, лицо ничем не примечательное – таких лиц миллионы. А потом оказывается, что этот человек – кладезь знаний, что он – обладатель большой душевной силы и красоты ума и организаторских способностей. Но он – рядовой человек. Он – народ.
Здесь сформулирована целая эстетическая программа: если народ есть воплощенная усредненность и ему противопоказано все неусредненное, то стратегией искусства должно стать не остранение, но, напротив, стереотипизация: собственно, народ – это и есть воплощенный стереотип – средняя полоса, средняя МТС, средний рост, все серое, скромное, непримечательное. Соответственно, изображение подобного объекта не может принимать неконвенциальные формы. Поэтому сатира, тяготеющая к заострению, здесь не просто неуместна, но эстетически невозможна.
Эти «сторонники теории затухания конфликтов, как безмятежные маниловы, идеализировали жизнь, закрывали глаза на недостатки, на борьбу с ними», чем «оказывали медвежью услугу искусству, выступали ликвидаторами конфликтов и правдивого искусства, его действенной и активной силы», были объявлены «последышами»… формалистов:
Сначала ее (комедию. – Е. Д.) пытались сбить с реалистического пути формалисты, отводившие комедийному жанру унизительную роль бессодержательного пустячка, затем ревностные почитатели бесконфликтности чуть ли не наложили запрет на изображение отрицательных лиц в комедиях, объявив их нетипичными. И те и другие фактически уничтожали жанр, с одинаковым усердием подрывали основы реалистической комедии[186].
Вина формалистов сводилась к тому, что все они «в советское время под разными предлогами, в различных вариантах, но упорно хотели ликвидировать комедию, изображающую жизнь через большие общественные конфликты, стремились вытравить из комедии социальное содержание. […] Формалисты превращали комедию в жанр безобидной юморески. И если говорить о корнях пресловутой „теории бесконфликтности“, то эти корни надо искать в различных формалистических и декадентских теориях», которые, в свою очередь, исходили из «буржуазной теории комического реакционного французского философа-идеалиста» Анри Бергсона[187]. И еще определеннее:
Мы глубоко убеждены, что теория бесконфликтности не возникла на песке. В комедийном жанре благоприятной почвой для ее распространения была формалистическая теория, бытовавшая долгие годы среди некоторых театральных деятелей и драматургов […] Формалисты, защищая безыдейную комедию, подготовляли почву для теории бесконфликтности, наносили вред развитию реалистической комедийной драматургии