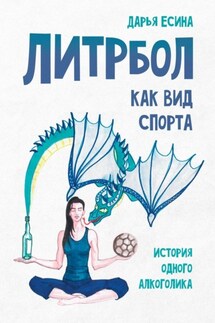Государственная измена и шпионаж. Уголовно-правовое и криминологическое исследование - страница 25
Первоначальная редакция статьи 57 проекта УК РСФСР, вынесенная на сессию ВЦИК, не имела второй части приведенного определения «контрреволюционного» преступления (со слов: «а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии…»). Эта часть была внесена в процессе обсуждения законопроекта и явилась воспроизведением формулировки из письма В. И. Ленина народному комиссару юстиции Д. И. Курскому.
С окончанием гражданской войны и переходом к восстановлению народного хозяйства изменились формы и методы проведения враждебной деятельности против РСФСР. Появились новые формы «контрреволюционной» деятельности, которые не были в полной мере учтены в УК РСФСР 1922 года. В связи с этим на второй сессии ВЦИК X созыва в июле 1923 года редакция данной статьи была изменена, и определение контрреволюционного преступления приобрело следующий вид:
«Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции РСФСР рабочего правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. Контрреволюционным признается также и такое действие, которое, не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведомо для совершившего деяние, содержит в себе покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции».
Таким образом, как отмечается в литературе, в новой редакции статьи 57 УК РСФСР было уточнено понятие «контрреволюционного» преступления. В ней «контрреволюционными» признавались, наряду с действиями, направленными на свержение Советской власти, также деяния, направленные на ее подрыв или ослабление, что существенно расширяло круг таких деяний. Кроме того, «контрреволюционными» стали признаваться и действия, которые были совершены с косвенным (эвентуальным) «контрреволюционным» умыслом[63]. Данное обстоятельство привело к тому, что многие ученые-юристы даже после коренных изменений в законодательстве и отмены приведенной формулировки продолжали придерживаться точки зрения о возможности совершения измены и шпионажа с косвенным умыслом.
Дальнейшее развитие советское уголовное законодательство о «контрреволюционных» преступлениях получило в 1927 году, когда на третьей сессии ЦИК СССР III созыва (25 февраля) было утверждено Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления).
В статье 1 этого Положения было дано следующее общее определение «контрреволюционного» преступления:
«Контрреволюционным является всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов и избранных ими на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных республик рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции.
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в СССР