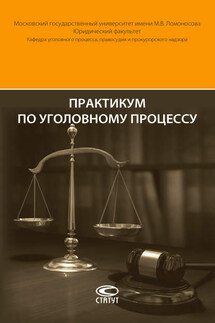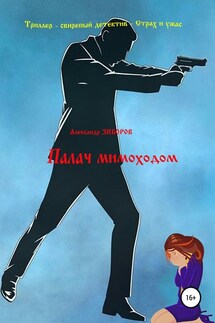Государство и его уголовное судопроизводство - страница 20
2.2.2. Отклонения от классического подхода в сторону самопроизвольного расширения государственного суверенитета
Наряду с самопроизвольным ограничением в уголовно-процессуальной сфере собственного суверенитета, явный пример которого мы пока наблюдаем только в пространстве Европейского Союза и который реализуется далеко не безоблачно, встречается и другая, противоположная тенденция, когда отдельное государство стремится самопроизвольно (односторонне) расширить свой суверенитет и уголовно-процессуально действовать на территории иных государств.
Необходимы два методологических пояснения. Во-первых, расширение суверенитета одного государства, действующего не в безвоздушном пространстве, автоматически означает ограничение суверенитета других государств или, по крайней мере, риск такого ограничения. Но ограничение суверенитета, строго говоря, здесь уже не является самопроизвольным, будучи либо следствием чьего-то одностороннего расширения суверенитета (если государство действует пассивно), либо отраженной угрозой (если оно действует активно), в силу чего мы и ставим акцент именно на изначальном факторе – на самопроизвольном (одностороннем) расширении каким-либо государством своего суверенитета или его попытках. Во-вторых, обсуждаемые случаи самопроизвольного расширения суверенитета пока являются для нас в уголовно-процессуальном смысле гипотетическими. Иначе говоря, мы вынуждены их обсуждать, в том числе применительно к уголовному судопроизводству, хотя в результате обсуждения не исключаем и вывод о том, что уголовно-процессуального отказа от классических подходов в данных ситуациях не происходит, уголовно-процессуальный суверенитет не расширяется, экспансии нет62.
Рассмотрим два таких гипотетических случая самопроизвольного (одностороннего) расширения определенными государствами собственного уголовно-процессуального суверенитета.
А) Проблема универсальной юрисдикции
Экстерриториальное действие уголовного закона, когда он применяется в уголовно-процессуальном порядке за деяния, совершенные за пределами территории того или иного государства лицами, не являющимися его гражданами63, не считается в современном праве чем-то исключительным или чрезвычайным. Определенную степень экстерриториальности уголовного закона можно сегодня обнаружить в правовой системе, наверное, любого государства. Скажем, в России она отражена в ч. 3 ст. 12 УК РФ, где сказано, что российский уголовный закон подлежит применению в случаях совершения