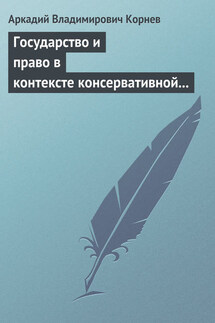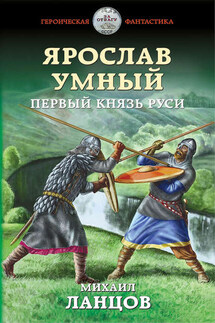Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии: опыт ретроспективного анализа - страница 6
История распространения консервативной идеологемы будет неполной без упоминания имени французского писателя Шатобриана, который впервые употребил термин «консерватизм». Консерватизм означал идеологию феодальной аристократической реакции периода французской буржуазной революции конца XVIII в., критику идей Просвещения «справа», апологию феодальных устоев и дворянско-клерикальных привилегий. Так характеризует консерватизм одно из справочных изданий.[7]
Идеи консервативных мыслителей XVIII – начала XIX в. занимают особое место в истории политической и правовой мысли. Де Местр, де Бональд, Галлер звали к восстановлению прежнего, феодального строя; идеалы консервативных мыслителей относились не столько к прошлому, сколько к той части настоящего, которая несет на себе наибольшие отпечатки, пережитки прошлого.
Рационалистическим идеям Просвещения Берк и теоретики исторической школы права противопоставляли историзм и традиционализм, убеждение в неодолимости хода истории, не зависящего от человеческого произвола. Идеи консерватизма направлялись против легисломании французских философов и революционеров, их надежд на возможности быстрого преобразования всей общественной жизни при помощи законов. Еще резче правовой волюнтаризм французских радикалов критиковали де Местр, де Бональд и другие мыслители реакционного толка. Они основательно критиковали априоризм теоретиков естественного права, полагавших, что все принципы права могут быть чисто логически выведены из природы человека вообще. В этой критике заслуживает внимания положение о зависимости права каждого из народов от исторического развития, условий жизни, особенности бытовых, производственных, религиозных, нравственных отношений. Данное положение обосновал еще Монтескье, но более глубоко оно развито в трудах Берка и исторической школы права. Определенным достижением правоведения были также их мысли о границах деятельности законодателя, который всегда создает право не на пустом месте, а для конкретного народа, и потому вынужден и должен считаться с традициями, нравами, историческим наследием. Помимо прочего подход к праву, признающий объективность разнообразия и изменчивости правовых систем, создавал теоретические основы для создания и развития сравнительного правоведения.
Шагом вперед в развитии правовой науки были попытки обнаружить закономерности истории права, рассмотреть эту историю как объективный процесс, не во всем и не всегда зависящий от воли законодателя. Верны и выводы Берка, де Местра, де Бональда, теоретиков исторической школы права в том, что право в целом создается объективным процессом жизни народа, а не кабинетным теоретическим творчеством и не устанавливается каждым поколением людей всякий раз заново и произвольно. Наконец, они правильно замечали, что революция, как и всякий общественно-политический катаклизм, не способствовала укреплению правовых начал, а напротив, вела во многом к неоправданному разрушению правового здания, создаваемого веками, к ломке традиционной правовой культуры, к правовому нигилизму и разгулу террора.
Консервативные идеологи были правы и в том, что законодательство каждого народа должно соответствовать условиям его жизни, а не абстрактным представлениям о человеке вообще. Но критика этих абстрактных представлений подчинялась предвзятой идеологической цели – сохранить униженное положение человека, свойственное феодализму. Однако гуманизм Просвещения вовсе не призывал к нивелированию людей и народов. Представления о правах человека многих теоретиков разнообразны, противоречивы и порой произвольны, но провозглашенная Французской революцией Декларация прав человека и гражданина содержала главные для той эпохи общечеловеческие ценности и принципы нового права. Абстрактность определения прав человека делала их применимыми к другим народам, поскольку давала возможность конкретизировать с учетом национальных особенностей. Именно это больше всего возмущало де Местра, де Бональда и других идеологов, не способных смириться с мыслью о всеобщем правовом равенстве и свободе как зависимости только от закона.