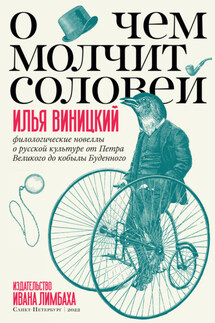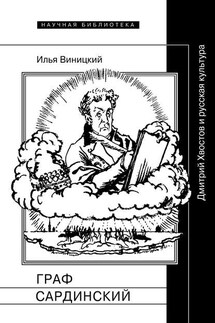Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура - страница 12
В примечании к этому душераздирающему произведению Хвостов указывает, что оно печатается «первый раз для показания отличной мысли французского автора об ужасном преступлении» [VII, 276]. О каком преступлении идет речь?
Установим, коллега, вначале источник этого стихотворения. Это эпитафия Жан-Жака Руссо, посвященная двойному самоубийству лионских любовников Терезы и Фальдони («De deux Amans qui se sont tués à St. Etienne en Forés au mois de Juin 1770») – «одному из самых знаменитых самоубийств» XVIII века [Минуа: 308]:
Впервые эта эпитафия была опубликована в «L’Almanach des muses» 1771 года за подписью «M. Rousseau de Geneve» (р. 22; очевидно, из этого альманаха ее и почерпнул русский переводчик). Известны два русских перевода этой эпитафии, относящиеся к началу XIX века, – И.Ф. Богдановича (опубл. в его «Сочинениях», 1810) и П.А. Катенина («Надпись Пираму и Тизьбе», Цветник 1810) [Добрицын: 104–105]. Приведем для сравнения с хвостовским переложением перевод сентименталиста Богдановича (Хвостов, кстати сказать, очень любил этого поэта):
[Добрицын: 104].
Как видим, в отличие от благочестивого Хвостова, напуганного ужасным преступлением, чувствительный Богданович склонен оправдать несчастных возлюбленных. Дмитрий Иванович был добр и поэтому не был сентиментален. Он жалел несчастных без пленительной экзежерации.
Кстати сказать, много лет спустя Дмитрий Иванович объяснял причину столь откровенной враждебности по отношению к нему со стороны поэтов чувствительной школы тем, что очень рано выступил «против слезливости, вздохов и не токмо изнеженных стихов, но и жеманных мыслей», вроде следующих: «румяные ивы, возвышенныя жизни, красноречивые прахи, бокалы сладкого досуга; не все люди в сложности составляют человечество» и пр., и пр. [Сухомлинов: 522]. Последовав похвальному примеру адмирала А.С. Шишкова, автора знаменитого «Рассуждения о старом и новом слоге», Хвостов ополчился в начале 1800-х годов на эти сентиментальные нелепости, по кротости нрава никогда не называя лиц и «не выставляя даже стихов, кои изгнаны с парнасса итальянского и французского и кои не должны существовать в том народе, который может похвалиться многими знаменитыми стихотворцами во всех родах» [там же].
Ну, мы-то с Вами, коллега, без труда можем установить, в кого метил Дмитрий Иванович в приведенных выше примерах. Бокалы сладкого досуга – это из ранней редакции «Пиров» Е.А. Баратынского, прочитанных в феврале 1821 года Н.И. Гнедичем на заседании «Вольного Общества Любителей Российской Словесности» (при публикации в «Соревнователе» молодой Баратынский убрал эту строфу).