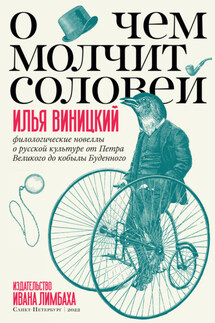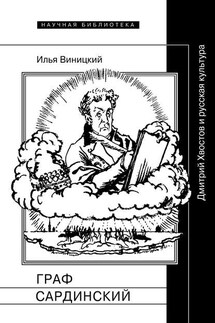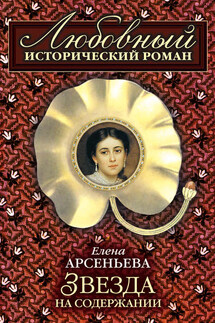Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура - страница 22
[Хвостов 1810: 116–117].
В свою очередь, на надгробной плите матери поэта Веры Григорьевны Хвостовой, скончавшейся 27 декабря 1812 года, написано: «Имела двух сыновей, из которых один остался в живых для воздаяния сего печальнаго долга. Все продолжение жизни ея было течение добродетели. Благонравие и христианское благочестие приобрели ей венец на небесах, уважение и любовь от супруга и всех знаемых». В Слободку «удрученная летами и болезнями» мать Дмитрия Ивановича отправилась умирать «при вступлении злодея (то есть Наполеона) в Москву» (злодей не пощадил московский дом Хвостовых). В этом же храме будет погребен и сам граф («Здесь положено тело графа Димитрия Ивановича Хвостова, Действительного Тайного Советника, Сенатора и кавалера. Родился 1757 г., скончался 1835 г.»). В 1843 году здесь будет похоронена и «Темира» поэта – графиня Аграфена Ивановна [РПН: 908–909].
В 1828 году святилище Хвостовых было осквернено неизвестными злоумышленниками: из Казанской церкви были похищены серебряные блюда, лампады и прочая утварь общей стоимостью до двух тысяч рублей. «Все это, – писал Хвостов, – [было] посвящено родителями Автора великолепной церкви, которая со всеми подробностями ея богатства описана в “Отечественных Записках” П.П. Свиньина» [V, 375]. На этот трагический случай, едва не разрушивший его веру в человечество, граф написал мощную оду-инвективу, озаглавленную «Певец Кубры похитителю церковного богатства»:
В мечущих Перуны стихах Дмитрий Иванович обличает изверга и кощунника, но в финале стихотворения по-христиански смиряется с утратой родительских сокровищ:
Последние слова, дорогой коллега, – одно из лучших самоопределений графа Хвостова. (Кстати, не отзывается ли оно в знаменитой автохарактеристике его великого и не менее родовитого современника: «Я грамотей и стихотворец»?[49])
В своем творчестве Дмитрий Иванович стремился сделать Слободку соперницей державинской Званки (как мы увидим далее, с Гаврилой Романовичем Дмитрий Иванович упорно, но, увы, безуспешно состязался). Это большое поместье, расположенное в историческом средоточии России, превратилось в своего рода топографический символ хвостовской поэзии – его сабинский уголок. Самого себя Хвостов неизменно именовал «певцом Кубры» (и под этим именем высмеивался зоилами). Скромная речка (конкурентка илистого «бурюющего» Волхова) в его творениях многолика и значительна – это и мирный поток, поселяющий в поэте отрадные мечты, и ничем не замутненный кастальский ключ российской поэзии, и разгневанная (по недомыслию) стихия, смывающая в час наводнения «мельницу села» у соседа, и возмущенная волна, грозящая в патриотическом подъеме «пожрать» самого Наполеона: