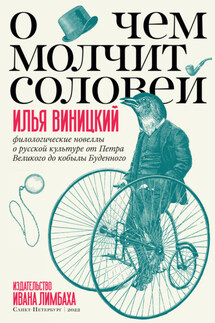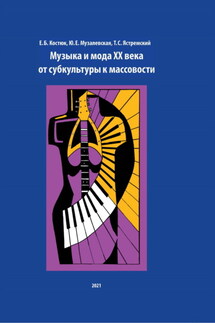Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура - страница 3
[Пуговишников: цитируется по памяти]
Опять же секрет обаяния этой элегии, бессознательно пародирующей отжившую к 1830-м годам кладбищенскую поэзию, не в клишированности образов, стилистических и грамматических несуразностях, непреднамеренных двусмысленностях и ритмических огрехах, но в обнаженной речевой позе незадачливого сочинителя: страстное желание быть романтиком, выражать правильные с точки зрения культурной традиции, в которую он себя вписывает, мысли и чувства. Я думаю, что если хорошая поэзия скрывает авторские комплексы, то плохая их обнажает[11]. Великий поэт отражается в стихах его подражателей. Ужасный поэт сам является искажающим отражением (кривым зеркалом или увеличительным стеклом) современной ему поэтической эпохи со всеми ее явными и тайными импульсами, вожделениями, предрассудками и условностями. В этом смысле «ужасная» поэзия может быть названа – используя выражение Фрейда о сновидениях – королевской дорогой к пониманию поэтического бессознательного.
И все же самым интересным и поучительным для меня в этом альманахе оказалось философическое вступление, почти на сто лет предвосхитившее программное предисловие к знаменитой антологии «Чучело совы» (The Stuffed Owl, 1930) и остроумную заметку Владислава Ходасевича «Ниже нуля» (1936), посвященную феномену плохой литературы. Это был настоящий манифест антипоэзии, поразивший меня своей железной логикой и глубиной.
Да, сразу признавался составитель, стихи наши нехороши. Но они нужны как «свидетели нашего быта для потомства»:
Наши потомки будут собирать все: дельное и недельное; будут желать, так сказать, поставить предков пред собою; осуществить прошедший век; видеть дух времени, порывы страстей, видеть людей минувших. Они станут стараться раскрыть все красоты и недостатки протекшего века; чего, не имея памятников, сделать не возможно. ‹…› Вот почему предлагаем и наши стихотворения в роде альманаха… Если некоторые скажут, что всякая всячина не достойна памяти; на это можно отвечать следующим образом: извините, друзья мои, везде и во всякий век есть и будет своя всякая всячина, ибо дарность и бездарность не разлучны…
Эта эстетическая диалектика последовательно применяется составителем альманаха к анализу феномена дурной поэзии:
Худое и хорошее в Литературе так связано, как зло и добро в мире. Да и что ж было бы, если б выходило в свет одно хорошее, образцовое? Оно потеряло бы свою цену и казалось каким-то обыкновенным, однообразным. С чем сравнять? По чему оценить его? Где нет расстояния, там нет и сравнения.
Отсюда следует, продолжает свои рассуждения составитель, что «худое нужно так для сравнения и разгадки истинной красоты в Поэзии, как ступеньки для лестницы, как оселок для золота». Воистину, «одно хорошее, образцовое будет подобно той стремянке, у которой одна верхняя ступенька». Наконец, «люди, привыкнув к образцовому (по врожденной склонности желать нового, лучшего), стали бы требовать из образцового образцового, не понимая, что такое образцовое (ибо, не зная худого, нельзя знать и хорошего), которое, будучи само по себе изящное, но неоцененное, не могло бы двигаться вперед». А «посему в литературной жизни явилось бы какое-то неподвижно-мертвое оцепенение».