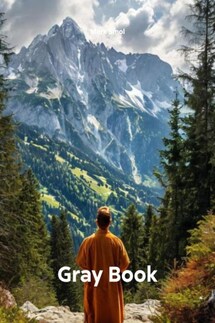Gray Book - страница 16
Однако, это скорее способ исполнения проклятия, чем действительное перерождение. В некоторых случаях происходит даже что-то вроде посмертной деградации/распада. Так Торгуна из той же саги – сперва драугр, затем – тюлень, затем торчащий из пола хвост).
С доступными фольклорными свидетельствами дело обстоит никак. В известных мне источниках (которых не вагон, впрочем) мотив перерождения не прослеживается, только оборотничество. Для сравнения, в индийских, китайских и т.д. сказках, легендах, суевериях упоминается "кто кем стал/был" постоянно.
Каковы альтернативы перерождению?
Павшие и принесенные в жертву Богу повешенных попадают к Одину. Как всегда – всё неоднозначно. В "Утрате сыновей" (один утонул, другой умер от болезни) Эгиль Скаллагримсон (скальд, почитавший Одина) говорит, что его сын поднят в хоф в мире Богов, и винит в своем горе именно брата Вилли. Есть, правда, интерпретация песни как Сильного Слова – чтоб сталось по сказанному.
В чертоги Фрейи попадают павшие войны и уважаемые женщины (слова Торгред, дочери Эгиля, про уход к Фрейе,” Сага об Эгиле”)
Есть версия, что к Тору уходили рабы. В “Песне о Харбарде”: “У Одина ярлы, у Тора рабы”.Основание слабое – фраза сказана в перебранке, могла быть презрительной характеристикой бондов, действительно больше почитавших Защитника, мог иметься в виду и обычай приносить в жертву Богу Войны пленных вождей. Жертвы-невойны (в т.ч. преступники), кажется, отходили Тору (“До сих пор можно видеть тот круг, где людей присуждали в жертву богам. В этом круге стоит камень Тора, о который предназначенным в жертву разбивали головы”. “Сага о людях с Песчаного Берега”)
Умершие могли превратиться в духов-покровителей, почитаемых предков (к Торгред Невесте Хёрди, её сестре Ирпе обращались в капище, не у кургана). Могли жить в горе по соседству – Торольв Бородач с Мостра, его сын Торстейн (“Сага о людях с Песчаного берега”).
Утонувшие попадали в сети Ран и на пир к Эгиру (снова с исключениями: Торстейн, сын Торольва утонул)
Но чаще всего – мыслились как пребывающие в кургане – терпимые к живым (Торлейв Ярлов Скальд) или не очень (Соти и др., к грабителям могил особо). Еще один пример совмещения участи – Гуннар с Конца Склона (“Сага о Ньяле”). Его видят радостным в освещенном кургане, он произносит вису, торопя месть, но сын его говорит о нём как об ушедшем в Валгаллу (Гуннар умер в бою)
Помещенный в могилу корабль считается средством передвижения в иные миры, однако в “Книге о занятии земли” Асмунд остается в кургане с кораблем и требует от прохожего убрать похороненного с ним на носу судна раба ("Тот убил себя, потому что не захотел жить после Асмунда"). Зато погребальный корабль Торгрима Гисли закрепляет специально, что б тот не сдвинулся с места (“Сага о Гисли”)
Умершие насильственной смертью, от мора, связанные земными интересами (имущество, месть), вызванные волшбой (посланные – sending) могли стать немёртвыми-драугами. Причем и курганные жители, и активные драуги (тоже обычно имевших могилу-пристанище) были вполне материальными, их можно было упокоить окончательно, отрубив голову и приложив её к ляжкам либо сжигая (отправить в Хель?)
Вынесенные (лишние в семье) дети могли превратиться в утбурдов (опасную нечисть).
В царство Хель (где есть и убранные палаты, и пиры, и малоприятные дома со змеями) попадали, по-видимому, все остальные. Опять же, значение слова hell – “могила”, что легко позволяло совмещать – в кургане и в Хель одновременно.