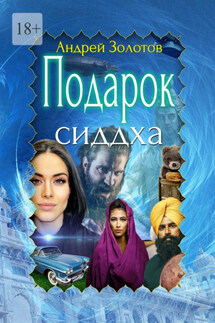Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты. Сборник статей - страница 18
Творчество Э. Т. А. Гофмана – своего рода энциклопедия романтической поэтики фантастического. В нем органично переплелись традиции готического романа («Эликсиры сатаны» (1815—1816) и литературной сказки («Щелкунчик, или Мышиный король» (1816), «Повелитель блох» (1822)), а в рассказе «Пустой дом» (1817) персонажи прямо рассуждают о роли воображения в видении реальности и о соотношении чудного и чудесного. Фантастическое у Э. Т. А. Гофмана наиболее отчетливо проясняет романтическую репрезентацию реальности, порождаемой «трансгрессией взгляда» (Цв. Тодоров), «гротескной культурой глаза», которую М. М. Бахтин связывал с особым отношением героя и автора к страшному: «Мир романтического гротеска в той или иной степени страшный и чуждый человеку мир. Все привычное, обычное, обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир вдруг превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг раскрывается страшное»34. С одной стороны, гротескно-фантастический способ видения преодолевает «узкий рассудочный рационализм, государственную и формально-логическую авторитарность, стремление к готовости, завершенности и однозначности, дидактизм и утилитаризм, наивный и казенный оптимизм и т.п.»35. С другой, «романтическая гротескная культура глаза», по М. М. Бахтину, становится предельно камерной, интровертной. Именно поэтому фантастическое отмечено в произведениях романтиков «культурой минус-зрения» (В. Н. Топоров), определяющей романтический «лимит видения» (Н. Я. Берковский). Так, в «Принцессе Брамбилле» (1820) и «Песочном человеке» (1817) Гофмана появление элемента сверхъестественного сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда (в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков, зеркал и т. п. визуальных инструментов). Как отмечал Ц. Тодоров, с миром чудесного в романтической фантастике связан не сам взгляд, а символы непрямого, искаженного, извращенного взгляда, каковыми являются очки и зеркало. «Эти предметы – в некотором смысле материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Та же плодотворная двусмысленность присутствует и в слове „визионер“ (visionnaire); это человек, который видит и не видит, представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения»36.
Помимо «явной» или «прямой» фантастики, связанной с вторжением в обычный ход жизни каких-либо сверъестественных сил, в литературе романтизма продолжает развиваться так называемая мнимая или «завуалированная» фантастика, когда, по словам Ю. В. Манна, «прямое вмешательство фантастических образов в сюжет <…> уступает место цепи совпадений и соответствий с прежде намеченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим планом»37, открывающая широкие возможности для развития фантастики в реалистическом искусстве. Примеры «завуалированной» фантастики встречаются как в творчестве западноевропейских («Песочный человек» (1817) Э. Т. А. Гофмана), так и русских романтиков («Лафертовская Маковница» (1825) А. Погорельского, «Латник» (1831) А. Бестужева-Марлинского, «Антонио» (1840) Н. Кукольника, «Упырь» А. Толстого (1841)).
«Разветвлённая система завуалированной фантастики» (Ю. В. Манн) лежит в основе поэтики «Пиковой дамы» (1833) А. С. Пушкина и «Портрета» (1833—1834) Н. В. Гоголя. В литературе реализма завуалированная фантастика имеет место у Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы» (1879—1880), Т. Манна («Доктор Фаустус» (1947) и т. д.