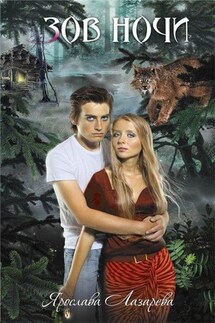Ханидо и Халерха - страница 50
Проскочил Пурама мимо Ланги – и пошел нагонять второго. Едукина. Но лямка… Как же мешает узкая лямка оленю! И как она не развяжется!..
Поплыл на него и Едукин. Бьет Едукин палкой оленей, а они будто не чувствуют боли – все так же медленно бросают ноги.
Еще шагов двести, а там равнина. Догнать бы Едукина!
А народ кричит, машет руками, топчется, пляшет…
Есть! Уплыл Едукин назад. Но впереди Кымыыргин. «Сирайкан Кымыыргин, сирайкан! Срезал мне лямку, срезал – я всем покажу… А оленей этих я тебе, Куриль, не отдам, не отдам, если даже и проиграю…»
А у оленей нет уже сил. Они не чувствуют боли, они, наверное, знают, что все равно упадут и подохнут…
Последний перелом тундры – дальше ровное место. Пурама соскочил с нарты, побежал рядом с упряжкой.
Ха! Да ведь и олени чукчи не бегут, а тащатся! Языки – то красные вывалили – словно собаки, и дышат совсем по – собачьи. И это – на ровном месте… Пурама разбежался, прыгнул на нарту и подтолкнул ее. Стегнув по бокам своих многострадальных оленей, он начал кричать на них и крутить ременными вожжами над головой.
С победным шумом он и хотел промчаться мимо гонщика Мельгайвача, но вдруг дернул вожжу и отвалил в сторону. В руке Кымыыргина ярко блеснул на солнце прижатый к рукаву нож.
Бешеным зверем глянул шаманский гонщик на Пураму – сорвалось у него и в такой момент. И он насел на оленей – начал хлестать их по чем попало.
А толпа орет, прыгает, расступается.
– Олени мои, олени, – дрожащим голосом вслух лепечет Пурама и уже не бьет их, а только из последних сил натягивает ремни. – Немножко, еще немножко… Во – от, во – от. Отстал. Отстал, сирайкан!.. Родные мои… Выдержали… Выдержали! Выдержали!
Он ногой ловко зацепил кольцо из тальника, к которому был привязан красный лоскут – знак первого приза, – и влетел в прогалок ликующей, шумной толпы.
Бросив оленей и закрыв руками лицо, Пурама поплелся, не зная, куда и зачем. Во всем его теле от головы до пят что – то стучало, вырывалось наружу, а перед закрытыми глазами то разгоралось, то гасло желтое лучистое солнце.
Объятие дрожащих рук остановило его. Пурама открыл глаза и тихо засмеялся, глядя прямо в лицо Курилю.
– Ну, не умирай, Пурама, – весь светился, как предвесенний день, Куриль, богач Куриль, теперь слишком большой богач Куриль. – Молодец. Какой же ты большой молодец, Пурама!
– Одарить его надо, хорошо одарить! – бил его рукой по спине Мамахан.
– Можно, Апанаа, умереть. После такого дела можно! – сказал Пурама, которого вместе с богачами толпа тискала, сбивала с ног. – Только не от радости – это брехня. От стука в грудях! Да, Куриль, а Кымыыргин – сирайкан – срезал лямку на правом. Иди – погляди. И второй раз срезать хотел…
Куриль и Мамахан сразу освободили гонщика, раздвинули толпу – зашагали к упряжке.
А люди в это время ласкали оленей – кто целовал их в мокрые носы, кто прижимался щекой к их глазам, кто гладил спину, брюхо, бока.
Растолкав всех, Куриль сразу увидел узел с торчащими острыми концами и, взявшись за этот узел, решительно повернул упряжку, повел ее за собой – к тому месту, где стояли упряжки Мельгайвача и Каки.
Совсем сгорбленным сидел Мельгайвач на нарте. Перед ним, опустив голову, тяжело дыша, стоял Кымыыргин. А Кака шагал туда и сюда по вытоптанному снегу. Сайрэ возле них уже не было.
У Куриля на языке крутились такие слова, от которых и Мельгайвач и Кака, наверно, провалились бы в нижний мир. Но вид совсем недавно страшно богатого чукчи мог разжалобить даже медведя: теперь Мельгайвач был никем – просто чукчей, может быть, пастухом Каки. И язык у Куриля не повернулся.