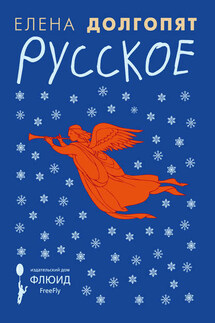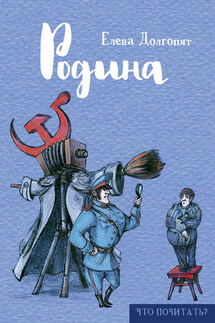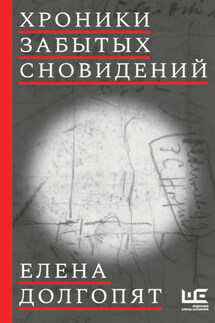Хроники забытых сновидений - страница 4
Передачу монтировали ночью. Там был сюжет с Гердтом, мы снимали в его квартире в «красных домах»; дома, действительно красные, стоят огромным замкнутым прямоугольником, внутри – чудесный зеленый двор, с фонтаном, аллеями, детским городком, баскетбольными площадками; на улицы из двора ведут арки, и кажется, что на ночь опускаются решетки, поднимаются на цепях мосты, выходят с алебардами караульные… Через этот чудесный зеленый двор я потом – очень потом, в другой жизни – ходила от метро к Свете ночевать после сеанса в Музее. Гердт говорил печально, что государство, которому не нужны инвалиды и старики, – плохое государство. Я тоже не чувствовала себя особенно нужной. И я видела таких людей, таких же, как я, узнавала по глазам, по мгновенному взгляду в толпе, по походке, по манере держаться и разговаривать. Мы были не лишние люди, мы были ненужные люди, новый тип, который я пыталась описать, который один мне описать удается. Моя приятельница, все по тому же МИИТу, прочитав мою первую книжку, сказала: «У меня даже снег падает по-другому». Она окончила бухгалтерские курсы, курсы по ценным бумагам, сейчас трудится финансовым директором, бог его знает, как у нее, за ее окном, падает снег, может быть, его вообще не бывает, вечно цветут розы, вечно поют соловьи, и молодые люди – серенады.
Передачу смонтировали без особого моего участия. За редакторские труды заплатили; сапоги, которые купила мне мама, стоили дороже. Философ спросил: «Ты не хочешь поработать в Музее кино?» К стыду своему, я не знала, что он существует, мы с моим мексиканцем как-то его проворонили.
В «Последнем метро» герой вынужден скрываться в подвале собственного театра. Идет война, он еврей. Жена его готовит ему побег из оккупированной фашистами Франции, но, главное, становится посредником – медиумом своего рода – между ним и труппой: она ставит спектакль, следуя советам и указаниям мужа. Очевидно, театр, игра, любовь – для них всех убежище от войны. Как для меня Музей – убежище от мира, что-то вроде монастыря, только не надо забывать, что это Музей кино, Музей иллюзий, Музей иллюзорный, что и будет впоследствии прояснено.
Мне близки все герои Трюффо, не только из «Последнего метро», мне кажется, они, как и я, пытаются воплотиться.
Я работаю в Музее двенадцать лет. Он для меня – ненужного человека – как для глухонемых их клуб. Они – там – среди своих, в крепости, защищенные от шума и грохота своей глухотой, я – здесь.
29 мая 1999
«Виридиана» (режиссер Луис Бунюэль, 1961).
Крупно, во весь экран, ноги девочки. Она прыгает через скакалку.
Ноги ее дяди на пыльной тропинке.
Босые ноги девочки.
Ноги дяди словно парящие над землей. И если ноги девочки оказывались над землей лишь на секунду, во время прыжка, то ноги дяди так и остаются над землей и обратно на нее не опускаются. Дядя повесился.
Выходит, пока ты на земле, пока жив, оторваться от земли, воспарить – не можешь. А если воспаришь, то это верный признак того, что ты мертв.
По-моему, это формула фильма. Невозможно быть живым и святым одновременно. Виридиана пытается. Для нее, с ее точки зрения, ее жизнь – цепь трагических несоответствий. Для зрителя эти несоответствия комичны.
Возможно, если бы Виридиана не была столь привлекательна и желанна, жить ей было бы проще. Но это на первый взгляд. И нежеланные желают.
Помнится, мы сидели в Музее, на шестом этаже, наверное, была зима, падал снег, крупный, в сиреневых сумерках. И вдруг Б.Д. запел по-французски: