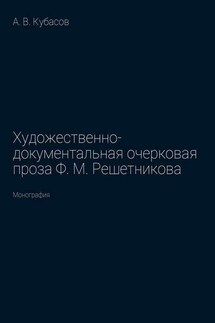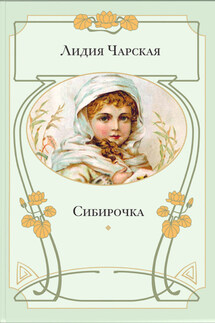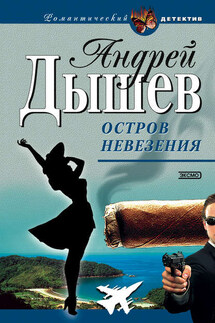Художественно-документальная очерковая проза Ф. М. Решетникова. Монография - страница 3
Комической истории женитьбы Николы Знаменского посвящена третья глава:
Пошел я к попу, – говорил отец: – топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теребит. Вот я как крикну: видишь это! И показал ему топор; у попа руки опустились и язык высунулся. А жена выбежала на улку и кричит: «Ой, попа режут! Ой, попа режут!» А я тем временем схватил попа и кричу: «Коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю…» Поп испугался и кричит: «Отдам! Отдам!» – «Врешь?» – баю. «Вот те Христос!» – бает (1, 106).
Сознание заглавного героя рассказа Решетникова можно охарактеризовать как дорефлективное. Никола, не говоря уже о других персонажах, изображается только извне. В ремарках рассказчика при характеристике Николы нет слов «подумал», «вспомнил», «узнал» и т.п., нет внутренней точки зрения, задаваемой глаголами ментальных действий: чувства, понимания, знания, ощущения и т. п. Показательно употребление безличного глагола в начале разбираемой главы: «Захотелось отцу жениться на поповской дочери» (1, 106). Эта же фраза могла бы звучать и несколько иначе: «Захотел отец жениться на поповской дочери». В таком случае герой выступал бы как независимый субъект воления. У Решетникова же человек слепо, неосознанно подчиняется неким социальным законам и среде, которые исподволь управляют им. Предельная объективация героя, думается, идет не только из-за того, что герой-рассказчик отказывается от передачи того, что недоступно его видению. Дело еще и в поэтике житийной иконы, которая также овнешняет героя, с помощью обратной перспективы выворачивает и разворачивает объекты на плоскости. Важно для нарративной структуры рассказа и другое – отказ от множественности точек зрения. Рассказчик мог бы глядеть на Николу глазами ребенка, взрослого человека, прихожанина, доктора, глазами окружающих его людей. Однако всего этого нет в рассказе. Даже слово «отец», употребляемое в рассказе, во многом нейтрально и выступает как одна из форм номинации героя. Можно говорить о некоей, скорее бессознательной, чем намеренно и сознательно создаваемой объемности нарратива Решетникова, которая достигается колеблющимся, мерцательным характером между разными типами повествования, что отмечается исследователями14.
Четвертое клеймо в житии Николы Знаменского – история о том, как он стал попом. Перемены в жизни Николы связаны с его перемещением в пространстве. Чем дальше он удаляется от родного села, тем значительнее влияние чужих и чуждых людей и сил на его судьбу. «Месяца через два после смерти Знаменского священника потребовали отца в город Подгорск, отстоящий от Березова в ста верстах. Благочинный сказал отцу, что его требует архиерей на посвящение его в священники» (1, 108). Это событие представляет собой своеобразную церковную инициацию героя, превращение «Николая Сидорова Попова» в «Николу Знаменского». Основной прием описания службы – прием «остранения». Никола не может ответить ни на один вопрос архиерея. Он не понимает не только скрытого сакрального смысла происходящего, но и прямого: «Вдруг попы и дьякона похватали, кто чего мог, и побежали вон из алтаря, и я за ними, только ничего в руки не взял…» (1, 110). При всем том божественная красота церковной службы оказывается доступна сердцу героя: «И диво же мне все, и понять не могу, што певчие поют, а пели так баско, так баско… (и отец при этом крякал)» (1, 110). Замечание, данное a propo, в скобках, важно для понимания нарративной структуры текста. На мгновение рассказчик обнаруживает себя, давая знать читателю, что перед ним не монолог героя так таковой, а лишь его изображение, что принадлежит этот монолог одновременно двум субъектам речи и двум субъектам сознания: явно – герою и неявно – герою-рассказчику, выступающему как стилизатор. Событие рассказа и событие рассказывания в данном случае даются в непосредственной близости, в их «событийной полноте», говоря словами Бахтина.