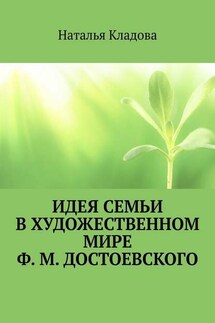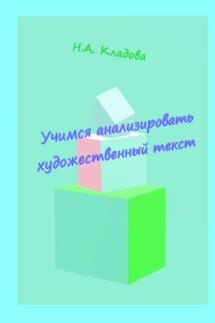Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография - страница 13
Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу надо, чтоб его не за одни страдания его любили, а чтоб полюбили и его самого. Что же значит полюбить его самого? «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» – вот что это значит и вот как вам ответит народ <…>. Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, не приготовлялся, не учился: он сам вдруг оказался народом. Он преклонился перед правдой народною, он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа и многие смердящие привычки его, он сумел различить великую суть его духа тогда, когда никто почти так не смотрел на народ, и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал» [26, 115]. Только это дает право человеку считать себя русским. По Достоевскому, «преклонялся перед народной правдой всем существом своим» [26, 117] и Некрасов. «В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, незыблемее, истиннее, перед чем преклониться» [26, 125]. Долг каждого русского интеллигента – признать в народе правду и принять ее в свою душу, признать своей правдой. Достоевский смещает акцент в понимании долга интеллигенции: долг – не только в том, чтобы построить для народа светлое будущее, но и в том, чтобы сохранить те духовные национальные ценности, которыми народ живет. И это долг уже не только перед народом, но перед самим собой, перед своей нацией. Долг – не обеспечить материальное благополучие народу, а вернуться духовно к своим национальным корням, подорванным петровскими преобразованиями, в слиянии с народом обрести духовную опору в русской вере, в русской нравственности, в христианских заветах любви и прощения, которые хранит народный мир. Для писателя Н. А. Некрасова и был тем поэтом, который открыл христианский народный мир.
Стоит заметить, что концепция долга интеллигенции перед народом появилась не в 70-е годы, а намного раньше. Она родилась уже в 40-е, а если точнее, то П. В. Анненков в «Литературных воспоминаниях» свидетельствует, что эта идея была высказана Герценом в 1845 году в Соколове: «– Пойми же ты, братец, – говорил он, обращаясь к Кетчеру, – что кроме общего народного вопроса, о котором можно судить и так и иначе, между нами идет дело о нравственном вопросе. Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная и невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы же сами? Официальных адвокатов у них нет, – понимаешь, что все тогда должны сделаться их адвокатами. Это особенно не мешает понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочем об упразднении всяких управ благочиния. Не для того же нужно нам увольнение в отставку видимых и невидимых исправников, чтобы развязать самим себе руки на всякую потеху»69. Стремление благородное, но вот только защищаемые мыслятся все же как «низшее сословие». Достоевский на каторге в «низшем сословии» откроет высшие нравственные ценности.
Во-вторых, Достоевскому была чужда радикальная идеализация народа. О «последних мерзавцах» (которые, однако, сознают свою мерзость) не раз упоминал писатель. В Мертвом доме он увидел самое «дно» народной жизни. И – не отвернулся, а, разглядев, сам обрел светлый образ Христа, которого носит в своей душе русский человек.