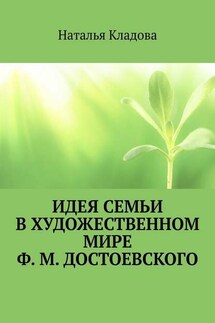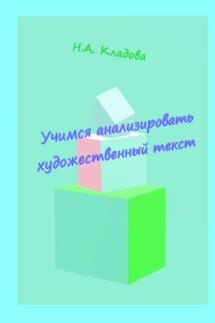Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография - страница 3
Контуры мировоззрения Белинского можно очертить следующим образом. В начале 40-х годов он, как и большинство «передовых людей» России, был увлечен идеями французских социалистов-утопистов. В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. критик сообщал: «Я теперь в новой крайности, – это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней»33. Белинский приветствовал идею издания Н. Кирилловым «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка», который должен был служить, особенно со второго выпуска, пропаганде социалистического «учения». В отзыве на первый выпуск словаря в 1845 г. критик советовал «запасаться им всем и каждому»34. Причем идея социализма в рассуждениях Белинского была, по сути, равнозначна идее социальности35. В том же письме к В. П. Боткину: «Социальность, социальность – или смерть! Вот девиз мой. <…> Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи»36. Это искреннее, трогательное чувство сострадания у Белинского скоро приобретет совсем не «райско-розовый» утопический оттенок: «Я ожесточен против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание мой Бог»37; потому что «смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастию. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов»38. Тезис «человеческая личность выше всего» оказался избирательным, относящимся только к «миллионам» одних, но не к «тысячам» других. Страстная вера Белинского в новое учение, по мысли И. И. Виноградова, это «упоение силой, упоение сознанием своего величия при всем своем „несовершенстве“ – упоение террором как оружием, направленным против социального зла, упоение революцией и социализмом как торжественным пиром человеческой нравственности и свободы посреди черного разгула слепой чумы небытия!..»39.
В сознании рисовался соответствующий образ мира. Богу приписывалось только одно качество – безжалостность во всемогуществе, и функции Бога позволялось взять человеку, который, таким образом, освобождался от всех других человеческих качеств. «Истину я взял себе – и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре»40, – сообщал Белинский Герцену 26 января 1845 г. Н. А. Бердяев точно сказал: «В Белинском русский революционный социализм эмоционально соединялся с атеизмом. Истоком этого атеизма было сострадание к людям, невозможность примириться с идеей Бога в виду непомерного зла и страданий жизни»