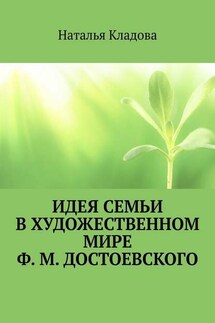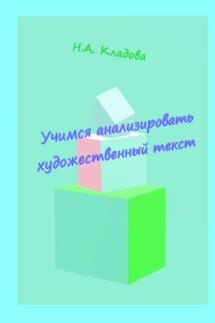. Подчеркнем – общественных, все раздумья петрашевцев были направлены на то, как изменить формы социального устройства; главное нововведение – фаланстер, «община, в которой соединялись бы все удобства частного отдельного хозяйства с удобствами хозяйства в складчину – (общинного)»
48. В своем имении Деморовке Новоладожского уезда Петербургской губернии Петрашевский пытался устроить фаланстер, по Фурье. Однако накануне заселения крестьяне сожгли новомодное строение. Петрашевский сделал вывод: нужна еще долгая подготовительная работа по разъяснению крестьянам учения Фурье. Достоевский явно делал другие выводы. А. Милюков свидетельствовал: «Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он однако ж считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что
все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним» (курсив мой. –
Н.К.)
49. Идея человеческого единства станет, как мы покажем в работе, определяющей для художественной системы Достоевского, и каждый его роман будет посвящен
истинной основе, на которой должно строиться это единство. «Школа» Петрашевского, как и «школа» Белинского, стала для писателя началом осознания того, что есть ложные и подлинные законы человеческого бытия. Подлинные связывались с «особостью» русской национальной души, «общинностью» русского быта.
В конце 40-х годов Достоевский испытывает творческий кризис. К. А. Степанян, разбирая «Бедных людей», делает интересное наблюдение: Достоевский открыл реальностьзла, т.е. присутствие в мире реального злого начала. «Чтобы победить реальность зла, <…>, чтобы преодолеть мучительный кошмар его неизбежности, нужно было открыть подлинную – а не отвлеченно-утопическую – реальность добра (что и произошло с Достоевским на каторге и после нее). Иначе „тайна человека“ будет постоянно представляться темной и всепоглощающей бездной»50. Может быть, отчасти и потому, что в творчестве Достоевский не мог еще открыть реальность добра, найти живительную силу, противостоящую «всепоглощающей бездне», он чуть не стал «нечаевцем» (как воспоминал А. Н. Майков).
«Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, – приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение.
– Вы, конечно, понимаете, – говорит он, – что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. <…> Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я – мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?