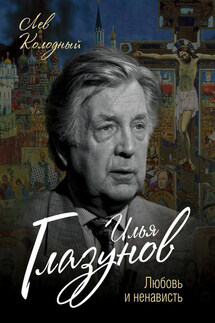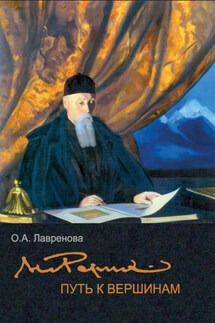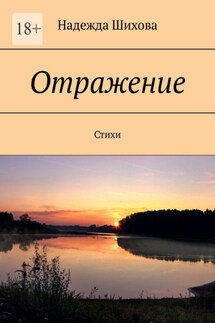Илья Глазунов. Любовь и ненависть - страница 56
Прочли как-то в классе отрывок из «Тараса Бульбы» и предложили проиллюстрировать услышанное. Принес на следующий день «Трех запорожцев» и, к своему удивлению, от справедливого Глеба Ивановича услышал поразивший несправедливостью отзыв, что, мол, где-то он подобное видел.
Еще один запомнившийся рисунок – белого офицера – возник после просмотра фильма «Чапаев», о нем мы рассказывали.
Как видим, в довоенные годы ни Пушкин, ни Достоевский не влияли на становление художника, как очень хотелось его биографу, с которым я заканчиваю полемику, уверявшему, что якобы мелодия пушкинского стиха воздействовала на мальчика.
«Илья летел на крыльях, завороженный могучим гением поэта, смутным сиянием неярких фонарей, протяжными гудками буксиров, плеском невской волны о ступени гранитных лестниц, он словно наяву видел, как быстрой походкой в черном щегольски надвинутом на голову цилиндре и развевающемся плаще идет впереди него сам Поэт…»
Нет, не завораживала тогда мелодия пушкинского стиха мальчика, не звенела в нем чеканным цокотом копыт и не разливалась щемящим напевом, как кажется его доброжелателю, одному из тех, кто своими изысками дал повод для пересудов искусствоведам, которые давно точат зубы на Глазунова. Не хотят видеть его в компании рядом с классиками, стремятся сбросить с пьедестала, куда поднялся сам, без посторонней помощи общественности, чего ему простить не могут.
Нет, не было ни Пушкина, ни Блока по молодости лет. Запорожцы, да, были, Наполеон, Суворов, челюскинцы, папанинцы, летчики, белые и красные. Кого еще я не назвал? Были испанские дети, морем прибывшие в Советский Союз, чтобы жить и учиться подальше от победившего фалангиста генерала Франко, все это и многое другое было. Но мелодия пушкинского стиха не звучала.
Не «мысль Родиона Раскольникова» и не мысль Достоевского помогла Глазунову «понять город». Не от литературы пришел он к постижению Петербурга. От возникшей сама собой любви к городу, как к девочке в школе, от созерцания его, от соприкосновения с искусством в музеях, на улицах, в антикварных магазинах. Литература пришла потом, в то самое время жизни, когда она является.
– Я всем обязан самому красивому, самому прекрасному, таинственному и «умышленному», как писал Алексей Толстой, городу Санкт-Петербургу. Помню наводнения, волнения, которые охватывали весь город, когда стихия, эта черная вода, неумолимо поднималась все выше и выше, затопляла ступени набережных, спуски к воде, мосты. Моя Петроградская сторона была неуютной, но родной для меня. Сегодня я порой чувствую себя в городе иностранцем, приехавшим из другой страны или из другого мира, когда смотрю, вспоминаю, кто и как прошел по этим улицам, кто смотрел мне вослед из окон слепых или излишне веселых домов. Мне повезло, что я родился в Санкт-Петербурге. Счастлив тот, кому повезло, как мне, которого окружала имперская державность, классическая красота. Я навсегда запомнил Петропавловскую крепость, «Медного всадника», сфинксов у дома над Невой. Когда проходили мимо стен Академии художеств, мать мне внушала, чтобы я испытал силы, когда подрасту, непременно попробовал поступить в школу академии, чтобы стать художником…
Она не знала, что ей не суждено дожить до этого дня, как и отцу, многим Флугам и Глазуновым. Питерский белый снег станет для них черным. Они умрут.
Наступили каникулы 1941 года. В сентябре Илье предстояло идти в четвертый класс. Как обычно, все ученики художественной школы на лето получали домашние задания – нарисовать натюрморты, пейзажи. Предстояла поездка на дачу, куда вез кисточки, краски, карандаши, а также талисман – маленький бюст Наполеона, подаренный на день рождения тетей. Не правда ли, интересно понять, каким образом страсть к Наполеону, разгромленному в России, изведанная поколениями русских дворян, передалась ленинградскому мальчику? Может быть, в этой любви проявлялось подсознательно невысказанное, инстинктивное, врожденное стремление к мировой славе, покорению стран и народов не силой пушек, а искусства?