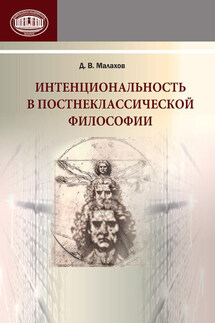Интенциональность в постнеклассической философии - страница 13
Понимая онтологию как «интенционально-синтетическую деятельность трансцендентального Ego» [117, с. 68], классическая феноменология рассматривает характер теоретической предметности по существу иначе, чем позитивная методология. Антипозитивистский исток феноменологического движения заключается в стремлении не к упрощению, а к усложнению теоретической сущности, принципиальному отказу от её рассмотрения как эмпирически или идеально одноплановой [181, с. 640]. Идеальная двухплановость обретает фундаментальную значимость в гуссерлевской концепции интенциональности сознания. Как отмечает А. Г. Черняков, идея о неодномерности психических феноменов модифицируется в антимонистическую стратегию различения двухплановости в идеальных структурах самого сознания – ноэзо-ноэматической корреляции, в утверждение о неоднородности его потока у Гуссерля, и реализуется идеей историчности двухпланового – онтико-онтологического – существа Dasein в фундаментальной онтологии Хайдеггера [171, с. 44–45].
Интенциональный предмет выступает как значимый, необходимый, бытийно обоснованный сознанием изначально. В. И. Молчанов, отмечая негативное содержание термина “значение” (не тождественно идеальному или реальному предмету; психическому образу предмета, знаку, с помощью которого обозначен предмет; не есть психологическое событие, образ или чувство), указывает на его положительное содержание как способ связи с предметом: «Значение идеально и непредметно; оно есть всегда отношение к предмету… но не есть сам предмет» [93, с. 160]. Характеризуя двухплановую специфику идеальной активности сознания, Эмманюэль Левинас подчёркивает также особую – духовную – спецификацию интенциональной жизни сознания, а саму интенциональность определяет в качестве фундаментального философского понятия новейшего времени:
Мыслимое идеально присутствует в мышлении. Такой способ мышления – идеально содержать отличное от себя – образует интенциональность. Это не факт связи внешнего объекта с сознанием и не отношение двух психических содержаний, включённых одно в другое, в самом сознании. Отношение интенциональности не имеет ничего общего с отношением между реальными объектами. Это акт сущностного придания смысла (Sinngebung). Экстериорность объекта представляет саму экстериорность мыслимого по отношению к направленному на него мышлению [71, с. 177].
Фактом того, что смысл обнаружен, положен и устойчив, является осуществление идендитификации в процессе формирования предмета. Идентифицировать в данном контексте означает определить идеальное единство во множественности интенциональных переживаний. Такое идельное единство и есть интенциональный предмет. При этом процесс идентификации не регрессирует в бесконечность, но завершается представленностью перед интенциональным актом идеального предмета.
Сходным образом выражает идеальное существо понятия интенциональности С. В. Комаров, для которого интенциональность «выражает не “что” сознания, но “как” сознания, характеризуя его как живую активность, как действенность: в любых эмпирических актах сознания оно само оказывается направленностью… интенциональность сознания выражает не его эмпирическую данность, но конституционную структуру любых эмпирических актов сознания» [60, с. 426].
Вместе с тем, как замечает Тыменецка, «сегодняшние феноменологи опираются на интуитивную очевидность, используют основные феноменологические приёмы и, таким образом, удерживают связь с гуссерлевским идеалом; однако они двигаются дальше без какого-либо прямого отношения к гуссерлевскому проекту» [141, с. 147].